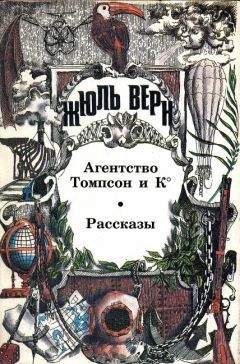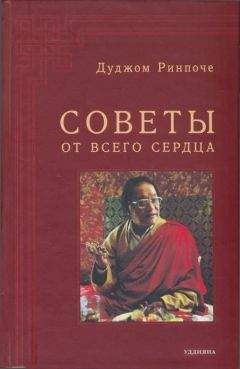Елизар Мальцев - От всего сердца
В небе стыла луна, осыпая лесные поляны и дорогу голубой пылью.
У моста лыжники сделали привал и разожгли костер. Над рекой стлался легкий пар, точно она дышала, засыпая на морозе.
Родион пробрался к берегу за хворостом и остановился у обледенелого камня.
Хруст ветки за спиной заставил Родиона вздрогнуть. Он обернулся, и предчувствие чего-то необыкновенного, что должно было сейчас произойти, сковало его.
Позади стояла Груня. На плечах ее шубки сверкал осыпавшийся с веток снег.
Она неловко прятала руки в узкие рукава шубки.
— А где же твои варежки?
— Я их там бросила, у костра, пусть подсохнут…
Не долго думая. Родион распахнул полушубок:
— Хочешь, отогрею? Да не бойся!
Мгновение она колебалась, готом несмело просунула ему подмышки озябшие руки и вдруг тихо засмеялась.
— Ты чего?
— Просто так. — Груня чуть отстранилась, и он увидел ее блестящие, потемневшие глаза и прядку волос, усыпанную снежными хрусталиками.
— Какая ты красивая, Грунь, — точно в бреду, сказал Родион. — Я еще в тот раз, как увидел тебя на лодке, сразу…
— Я знаю, — робко перебила Груня, — я за это время, что мы не виделись, все припомнила…
«Любит», — будто кто шепнул Родиону это слово. Он склонился и поцеловал Груню в теплые, податливые губы.
Она доверчиво прижалась к нему и заплакала.
— Что ты? Что ты? — испуганно забормотал Родион. — Разве я обидел тебя?
Груня покачала головой:
— Потому что я… Потому что ты… ты любишь меня… Я сама не знаю…
Переполненный нежностью и жалостью, он прикрыл ее полой полушубка, ни о чем больше не спрашивая.
Груня и вправду не знала, откуда пришли эта непрошенные слезы: то ли оттого, что прошло ее детство на глазах у суровой, нелюдимой тетки и некому было теперь порадоваться ее счастью, приободрить напутственным родительским словом, то ли оттого, что подоспела та пора жизни, когда человек юн и уже прощается с юностью и не знает, что ждет его впереди.
— Гру-ня-я! Пое-ха-ли-и!..
Она вытерла слезы и отстранилась.
— А как же я? — спросил Родион.
Груня задумчиво посмотрела на далекие снеговые вершины, облитые лунной глазурью.
— Какой ты чудной! — в голосе ее были удивление и нежность. — Приезжай к перевалу в воскресенье. Ладно?
Родион радостно закивал: он был на все согласен, лишь бы скорее увидеть ее снова.
— На, возьми мои варежки, а то замерзнешь…
— Да у меня, наверное, свои высохли…
— Ну вот, я их и заберу. — Ему казалось, что, взяв его варежки, Груня придет уже наверняка.
— Я пойду — зовут меня, — нерешительно сказала она.
— Погоди немножко… Все равно они без тебя никуда не уедут… Ну, еще чуток!
Он притянул ее к себе и ласково прикоснулся губами к ее щеке.
Груня оторвалась от него и пошла, сбивая хворостинкой снежные хлопья с веток.
Надев у костра лыжи, она побежала. Ей хотелось петь, и, бросаясь с круч, она смеялась, оставляя позади пенный след, слушая шелест снега под лыжами. Вот она вылетела на взгорье, и у нее перехватило дыхание.
Внизу, в глубокой долине, рассыпались игрушечные кубики домов, неслась быстрая, незамерзающая река.
— Как красиво! — шепнула Груня. — Родион, милый…
Впереди, за высокими соснами, лежал налитый лунным светом простор, и она тихо скользнула меж черных стволов в синюю мерцающую долину…
С этого вечера все, казалось, предвещало ей счастье: и редкие встречи с Родионом, и первые подснежники, которые они сорвали на горных склонах, и знакомство с родителями Родиона, приветившими ее, как родную, и сам он, сдержанный, ласковый, и то радужное июньское утро в день свадьбы, когда подружки разбудили ее.
Кровать была забросана цветами: желтыми стародубками, ярко-бордовыми марьиными кореньями, огненными саранками, раскрытыми, как маленькие граммофонные трубы.
С восторженным удивлением оглядела Груня нарядных подружек в венках из ромашек, заваленный подарками широкий крестьянский стол.
— Ой, девоньки, родненькие мои! — вскрикнула она, протягивая руки и чуть не плача.
Подружки шумно окружили ее, затормошили, потом, встав полукругом, лукаво перемигиваясь, с притворной важностью запели старинную свадебную песню:
Что ни конь над берегом бежит,
Конь бежит, бежит, торопится.
Конь головушкой помахивает.
Золотой уздой побрякивает,
Стременами пошевеливает…
Заливистые девичьи подголоски бросили песню в распахнутые настежь окна.
На коню да сидит удалой молодец.
Разудалый добрый молодец.
Натянув до подбородка одеяло. Груня слушала, полузакрыв глаза, счастливая улыбка блуждала на ее ярких, как вишни, губах.
Разудалый добрый молодец
Родион да он Терентьевич…
Не выдержав, девушки рассмеялись, и, отвечая на их озорную выходку, Груня отвела за спину свои каштановые косы, запела бездумно и легко:
Милые подруженьки.
Подите в зеленый бор по ягоды…
Голос у нее был чистый, полный неуловимо светлой грусти.
Подите в зеленый бор по ягоды,
Не увидите ли там мою красоту,
Не сидит ли она под кустиком,
Не чешет ли буйную головушку,
Не плетет ли русую косыньку…
Было что-то трогательное в том, как сидела у подоконника Маша, подперев пухлыми кулачками щеку, и серыми печальными глазами, в которых копились слезы, смотрела на Груню.
Она вспоминала те близкие и уже далекие годы, когда они голенастыми девчонками бегали в школу. Машеньке было по пути, и, постучав в замерзшее стекло, она всегда приплясывала, ожидая подружку на морозе. Долгими зимними вечерами они засиживались над книжкой у крохотной лампешки, слушая дикое завывание метели.
Они незаметно подрастали, переходили из класса в класс. Однажды Груня заметила, как пристально загляделся на нее в клубе кучерявый парень, вспыхнула, а вечером поведала нехитрую свою тайну Маше. С тех пор узелок дружбы завязался еще туже. Маша знала, что Груня красивее ее, но сердце ее никогда не отравляла недобрая зависть.
Неразлучными были они и в работе. И, как будто вчера, скрипит тяжело нагруженная снопами телега, обе они лежат наверху, заложив руки под голову, и поют тягучую песню, широкую и долгую, как эта дорога. Медленно колыхается воз, ползут в небе облака, пахнет от колес чистым дегтем.
А теперь уже не к кому будет прибежать Маше летней ночной порой на сеновал, не с кем будет поделиться своими радостями в печалями…
И Маша вдруг уронила голову на подоконник и громко заплакала.
— Что ты? Машенька! Что ты? — Груня в одной рубашке подбежала к подружке и обняла ее. — Не горюнься, родная моя! Разве я уезжаю от тебя за тридевять земель?
И немного погодя обе они, смеясь, ехали в разукрашенной бричке под рокот железных бубенчиков, унизавших дугу, пели, не жалея голосов:
Эх ты, сердце, сердце девичье…
Не видать мне с тобой покоя…
На двух пыливших позади бричках подхватили:
Пел недаром за рекою,
За рекою соловей-ий…
Струились, обвивая дуги, голубые и алые ленты, стлался по сторонам дороги светло-зеленый дым яровых; песня поднимала с земли степных чаек.
Груня сидела рядом с тетей, обняв Машеньку за плечи. Шуршало, лаская колени, шелковое белое платье, прохладным крылом бился на пригретой солнцем шее прозрачный шарф.
Душа Груни была полна глубокой нежности к подружке, и к девушкам, провожавшим ее, и даже к строгой, задумчивой тете.
На зеленые косогоры, будто любопытные девчонки, выбегали босоногие, раскосмаченные березки поглядеть, как вихрят по дороге веселые брички.
По дощатому мостику пробарабанили верховые. Это Родион с товарищами ехал навстречу невесте. Он смущенно поздоровался со всеми и начал было выпрастывать из стремени ногу, чтобы пересесть в бричку к Груне, но Машенька с нарочитой строгостью крикнула:
— Успеешь, успеешь еще наглядеться! Дай хоть мне, посаженой матушке, на дитятко неразумное налюбоваться! А ты, вор, терпи да помалкивай!
Деланная нахмурь не могла загасить блеска Родионовых глаз. Губы его волновала еле сдерживаемая улыбка.
Буланый конь под ним выплясывал, грыз удила, норовя сорвать с Машиной головы венок, но если бы увидел белую косоворотку на хозяине, то наверняка потянулся бы к зеленым травинкам и красным гвоздикам, которыми были вышиты подол, рукава и воротник.
Скоро дорога легла под уклон, и сквозь голубое окно просеки Груня увидела далеко внизу, в розоватом тумане утра, крыши деревни, в которой ей предстояло теперь жить с Родионом.