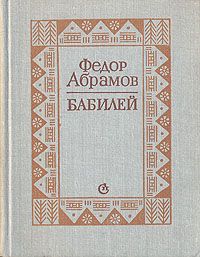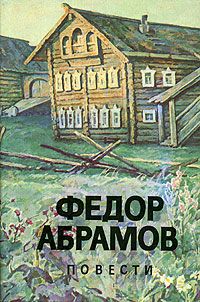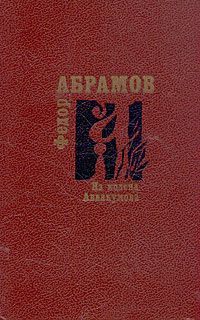Федор Абрамов - Бабилей (сборник рассказов)
Долго я, весь разбитый и измочаленный, лежал в постели, снова и снова прокручивая в голове все подробности вчерашнего вечера, унылым взглядом обводил комнату. Массивный, как сундук, телевизор во весь угол, полированный сервант, или стервант, как сказали бы мои дере-венские приятели-остряки, заставленный всяким хрустальным барахлом, куклы франтоватых дамочек в национальных костюмах, которые я привез из заграничных поездок…
А где же новогодняя елка? Жена с племянницей обычно ставили елочку ко мне в комнату в самый канун Нового года — свежую, морозную, почти без всяких украшений, в своем натура-льном наряде, и к утру она заполняла лесным духом всю комнату.
Так вот почему у меня непразднично сегодня на душе, начал я уже по-новому обьяснять причины своего дурного настроения, — елки в доме нету. Вчера жена и племянница два часа мотались по городу — не могли достать А без елки какой же Новый год?
В передней зазвенел звонок — почта, должно быть.
Она. Я узнал Олю-почтальоншу по шепелявому, захлебывающемуся голосу. Оля поздрав-ляла жену с Новым годом, и жена тоже поздравила ее, а затем, как я понял из дальнейшего разговора, хотела немножко, хотя бы десятью рублями отблагодарить ее за услуги — у нас большая почта и Оля иной день раз пять наведывается к нам.
— Нет, нет, — услышал я опять торопливый и шепелявый голос, — это наша работа, нам за нее платят. Вы меня обижаете…
Обижаете? Это ее-то обижают? Господи, получает каких-то восемьдесят рублей за такой каторжный труд (попробуй-ка на себе потаскать целыми днями пудовую сумку из дома в дом, с лестницы на лестницу) да еще и «обижаете»…
Я пошел на подмогу жене.
Вижу, стоит в передней давно примелькавшаяся мне уже немолодая девушка в теплом платке. Серое дешевенькое, затасканное пальтишко с вытертым кроличьим воротником, старые суконные румынки, зубов спереди нет. А почему нет — гадать не приходится. Не очень-то разбежишься на ее капиталы.
И вот мы уже оба с женой уговариваем Олю принять от нас подарок. И снова: нет, нет.
Я надбавил пятерку — может, теперь будет посговорчивее?
— Вы меня обижаете! — сказала опять Оля. И сказала уже твердым, непререкаемым голосом, в котором, однако, угадывались с трудом сдерживаемые слезы.
И я глядел в ее большие, спокойные серые глаза и вдруг понял, что и в самом деле обижаю ее. Покушаюсь на самое дорогое богатство ее — честность и неподкупность труженицы.
Мне стало стыдно. Стыдно до слез. И в то же время какой свет хлынул в мою душу!
1977
ПОЛЯ ОТКРОЙ ГЛАЗА
— Узнаешь, нет? Але больно высоко вознесся, нас, грешных, не замечаешь? Давай дак разуй глаза-то. Так я и поверила тебе. Полю Малкину не узнал.
— Поля? Из седьмого класса?
— Ну то-то же.
Я так и эдак всматриваюсь в пьяную, развязную бабенку, незванно-нежданно ввалившуюся в избу, и нет, ничего не могу отыскать в ней от той черноглазой, смуглолицей девочки с гладкозачесанной головкой и пышной косой, которую мы звали Поля Открой Глаза. Звали за ее непомерную стыдливость и застенчивость, ибо она всегда ходила с полуопущенной головой и полузакрытыми глазами.
Когда Поля выпила стопку (ради даровой-то выпивки и зашла), она с ухмылкой сказала:
— Ты вот, как меня в седьмом классе звали, запомнил, а почто я такой-то отпетой стала, знаешь? Ничего не знаешь. Тебя кто учил-то? Профессора да всякие ученые? А меня жизнь-матушка. Ты после седьмого класса прямиком в восьмой. Так? А я куда? А я в лес. А почто в лес? А пото, что себя кормить надо да еще мелюзгу. Отец умер, нас шестеро осталось, и я самая старшая. Вот и дали мне путевку к пню — лес возить. Это четырнадцати-то лет.
Я села в сани: «Поехали, Карюха». А Карюха и не думает ехать. Я так, я эдак: милая, хоро-шая, дорогая. А милая да хорошая ни с места. И вот вечером мне и пайки нету: задание дневное не выполнила. А еще через день меня к начальнику лесопункта: «Как это понимать? Саботаж але вредительство?»
У меня были из дому сухари житние, сама не съела, а наутро все кобыле скормила. Думаю, поимеет совесть, пойдет. А она опять ни шатко ни валко. Я плачу, я горькими обливаюсь — ничего поделать не могу. Спасибо, Василий Мартемьянович подвернулся. Старик, пилы наставлял. «Что, девка, плачешь?» «Кобыла нейдет. Я уж ее и упрашивала, и умоляла, и сухарями кормила…» «Ох, девка, девка, да не упрашивать эту кобылу надоть да сухарями задабривать, а матюкать. Она к этой политграмоте у мужиков приучена, а твоего языка она не понимает». Взял у меня из рук вожжи да как рявкнет, да как выпалит сто матюков в секунду, она, кобыла-то, и пошла. Вот так я обасурманилась, так я стала гнуть матюки, как медведица дуги.
А как я с этой, с белоголовкой-то, спозналась, дружбу свела рассказать? До тридцати лет в рот капли не брала, вот те бог! Даже в День Победы — по сто грамм спирту дали, не притро-нулась. Егору Степановичу отдала. А тут решила на случку идти, напилась. Что, что морщишь-ся? Небаско говорю? А баско-то в книжках, баско-то вы, писатели, сказки сказываете. А у меня какие сказки. До тридцати лет жила, ни разу с парнем не поцеловалась. С худым, мозгляком каким не хочу, а хорошие-то где они? Хороших-то на войне поубивали.
Вот так я и дожила до тридцати лет девушкой на все сто процентов. А тут спохватилась: да что же это я делаю-то? Ведь так я и зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха. А где любовь? В романах, в кино вешаются да травятся из-за этой любви, а я жизнь прожила и не отведала. Вот тогда я первый раз с бутылкой-то и спозналась. А как? Надо идти на поклон к Ваньке Олешичу (один он у нас был сознательный, никого не отталкивал), а меня тошнит от одного вида его. И вот для храбрости я сама хватила стакан да еще ему за труды бутылку прихватила. Задаром-то он не работает, ха-ха…
Ну про любовь обсказала — дальше тайна, покрытая мраком. Але еще рассказывать? Могу. Это еще все подходы к моей жизни, а про саму-то жизнь, ежели хочешь знать, я еще и не начинала…
1970–1980
СЛОН ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
И как только я ни называл, ни крестил ее про себя, каких только прозвищ ни придумывал! Топало, бегемот, сундук ходячий, медведица двуногая…
Но все это было не то, все это в лучшем случае передавало ее внешний облик, ее громоз-дкость. Помню, я даже растерялся, когда впервые увидел ее, — такая вдруг громадина, такая вдруг стопудовая туша выперла из-за угла да еще в этом своем мужикоподобном, длиннющем, до колена, пиджаке из какого-то дешевого темно-синего сукна…
Я немного успокоился, когда на ум пришла вот эта самая кличка — слон голубоглазый. Тут уж было кое-что ухвачено и от ее характера, от ее внутренней сути. По крайней мере — от ее доброты. Ибо всякий раз, встречаясь со мною (а мы как соседи по двору встречались почти каждый день), она улыбалась мне своими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами (это при ее-то габаритах!) и с какой-то обезоруживающей простотой и даже застенчивостью, всегда одним и тем же, ровным и тихим, чуть-чуть шепелявым голосом спрашивала:
— Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как вам работается?
Я, конечно, отшучивался, говорил какие-то банальности, пустяки. А что было делать? Не принимать же всерьез все эти расхожие, изо дня в день повторяющиеся благоглупости? Но, странное дело, с некоторых пор я стал замечать: после встречи с Марией Тихоновной мне весь день было как-то легко и хорошо, и даже лучше работалось.
Между тем время шло. Прошла осень (первый раз я встретил Марию Тихоновну в солнечный сентябрьский день, когда весь наш двор был засыпан золотом опавшего листа), прошла зима, весна зелеными тополями вскипела у нас на дворе, а мы как раскланивались при встречах, так и продолжали раскланиваться. Да большего, откровенно говоря, я и не хотел.
И вдруг однажды приходит из университета жена (она читала курс русской литературы на заочном отделении, где работала Мария Тихоновна) и говорит:
— Марию Тихоновну видела.
— Ну и что?
— Приглашала на юбилей.
— На юбилей? На какой юбилей?
— На свой. Шестидесятилетие будет отмечать.
— Что ж, сделай доброе дело — сходи.
— Видишь ли, — сказала жена, — она нас вместе приглашала.
— Ну знаешь… Только мне теперь по юбилеям и ходить…
— Ничего. На часок — на два можно. Надо же уважить человека.
Я пришел в ярость. Конец мая, конец учебного года — да разве ей объяснять, ей растолко-вывать, что за жизнь в это время у преподавателя университета? Каторга! Дипломные и курсо-вые работы, завершение лекционных курсов и спецкурсов, подведение всевозможных итогов за год — по учебной работе, по научной, по воспитательной… А всякие там собрания и заседания, всякая писанина отчетная… Да тут не то что по юбилеям ходить — дыхнуть некогда. А потом, что меня еще вывело из себя, — как она не подумала о главном деле моей жизни? Да, да, именно в те годы в великой тайне от всех по ночам, в летние каникулы, в выходные дни, годами недосыпая и не отдыхая, — я сотворял свой первый роман, и завтра как раз было воскресенье — единственный день за эти две сумасшедшие недели, когда я хоть на час — на два мог засесть за свою любимую работу.