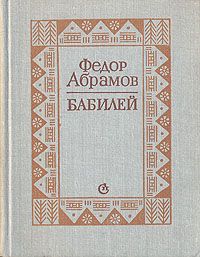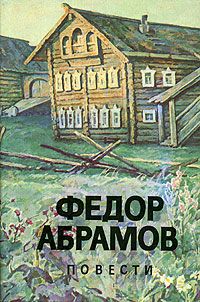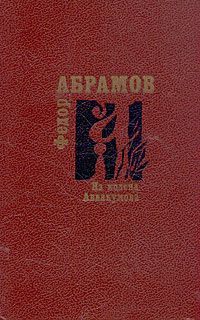Федор Абрамов - Бабилей (сборник рассказов)
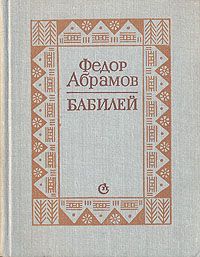
Обзор книги Федор Абрамов - Бабилей (сборник рассказов)
Федор Александрович Абрамов
Бабилей
БАБИЛЕЙ
На этот праздник меня выволокла Евстолия. Подкатила эдакой лисой: «Конь, говорят, у тебя застоялся. Не хочешь до Юрмолы прокатиться? Мне бы к бабушке одной надо, за овечкой наказывала приехать».
Ну и как было отказать? Как сказать: нет? Соседка. За всем тащишься к ней: и за молоком, и за картошкой, и за луком. А грабли, вилы, косу — у кого взять?
На новеньком, еще не обкатанном как следует «Немане», запряженном в двенадцать железных лошадей («Ветерок» мотор), мы быстро, за считанные минуты отмахали семь километров, вытащили лодку на песчаный берег — и в деревню.
И вот тут, когда мы вышли уже к баням на зеленый лужок да услыхали в деревне гармошку, Евстолия мне объявила:
— На веселье настраивайся. Не за овечкой ехали — на бабилей.
— На бабилей? На какой бабилей?
— На какой, на какой… Какой бывает, когда человек на пензию выходит.
— На юбилей?
— Ну. Так, наверно, по-ученому-то. Мы у пня выросли, нечто и понимай.
Я круто повернул назад: у меня дома работы всякой невпроворот, горы (только что из города приехал), даже трава вокруг дома не выкошена, а она на-ко что выдумала — по каким-то бабилеям разъезжать.
Евстолия проворно схватила меня за руку, слегка тряхнула (была у нее силенка, хоть на вид и рыхлая баба), затем, явно задабривая меня, с улыбкой сказала:
— Да ты разве сразу-то не понял, зачем я еду? Катерина, двоюродная сестра по мамы, на пензию на той неделе вышла. Пять десятков жонке стукнуло. Наказала: приезжай и никаких, а то и за родню признавать не буду.
И уже совершенно обезоружила, когда, вся полыхая кумачовым румянцем от смущения, неуклюже, переступая с ноги на ногу, повернулась передо мной:
— Смотри-ко, как я вся вынарядилась. Кто в таких нарядах за овцами ездит?
Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Пля-сали все скопом, всем застольем: бабы, девки, старухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало срыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто — парни, мужики, которые помоложе, — жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой сразу было видно, что она тут первая красавица.
И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.
Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня.
— К столу! К столу! — закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.
— Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место! Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды, да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы, эмалированными мисками.
Как водится, нас заставили выпить по штрафной — дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка — она села напротив нас — еще и присказку присказала:
— До дна, чтобы муха ног не замочила.
— А где сами-то хозяева? — спросил я на ухо у Евстолии.
— Чего, чего?
— Где, говорю, юбилярша да Гордя?
Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.
— Да ведь он не узнал тебя, Катерина! — сказала она молодой бабенке. Говорит, где хозяйка да Гордя.
— Молчи! — махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым донышком. — Я, суседка, и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?
Я видал Катерину, видал не один раз и даже, помнится, лет пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник — выше караульщика склада на моей памяти не поднимался, инва-лид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше от него.
— Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла! — расчувствовалась Евстолия. — Хоть снова замуж выходи.
— Дак ведь пензия-то у ей не наше горе, — сказала Маланья, та речистая старуха в повой-нике с золотым донышком, — не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.
— Заслужила! — трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).
— Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, — начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). — Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.
— А где у тебя сам-то?
Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.
— А сам на повети! — весело ответила Катерина.
— На повети? Чего там делает? Деньги зарабатывает, пока жена гуляет?
— Молчи ты, — замахала руками Маланья. — С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.
— Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала — от Горди выходной взяла.
— Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.
— Гордю не трогать! — вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.
— Не трогам, не трогам, Виталий Иванович, — опять перешла на елейный тон Маланья. — Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?
— Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.
— У-у, у-у, беда! — стоном простонал стол. — Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она — дюжину!
— Да, я уж не видывала Катерину в простое. Всё с брюхом.
— И правильно! Посуда не должна быть в простое.
На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:
— Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?
Катерина разудало крикнула — нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:
— Девки, мясо на стол!
— Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.
— В председатели надоть! — поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, гроза-старуха. — А то всю жизнь из-за моря телушку возим.
— Верно-о-о!
Тем временем две дочери Катерины — просто замухрыги невзрачные по сравнению с мате-рью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах — культурные, в городе живут, — принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбавшаяся — у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, — вдруг взъярилась:
— Это чего вы принесли? Кошкам исть але людям?
Одна из дочерей с укором покачала головой:
— Красиво, больно красиво налакалась!
— А хоть и налакалась, не на ваши деньги. На свои!
— Мама, да ты с ума сошла! — Это уже другая дочь попыталась утихомирить разошедшу-юся мать.
Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:
— Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.
Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом — Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, — тоже что-то вроде оцепенения наступило.
Катерина вдруг расплакалась:
— Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!
— Ты-то, ты-то отчаянная?
— Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.
— Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у него в кажной деревне наследники да девки.
— Нет, бабы, не вру, — сказала Катерина. — На войну-то, помните, сколько от нас уходи-ло? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были. Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.
— Мама…
— Да чего — мама? — накинулась на дочь Катерины Маланья. — По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать. Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? — И вдруг рассмеялась: — Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот те бог.
— Ну тогда и меня в свою компанию примайте. Моя крепость тоже осады не выдежала, — призналась Евстолия.
— Шестнадцать лет мне было, когда я по своему Гордеюшку-то сохнуть стала. Шестнад-цать. Выписали на подсочку, смолу, живицу собирать, а он, Гордя-то, на участке за старшого. Смотрю, все грабятся за него — и бабы, и девки. А я чем хуже, думаю? Я тоже к тому времени различала, что штаны, что сарафаны. Вот раз встречаю в лесу. «Чего, говорю, ко всем липнешь, а меня стороной обходишь?» — «Да ты соплюха еще». А я и взаправду соплюха против его — двадцать семь мужику. Ну, отступать поздно, заело меня. «А ты спробуй, говорю, какая я соплюха». А он на смех: «Летай, летай, гулюшка».