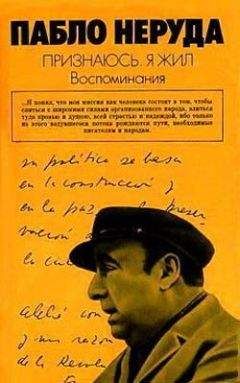Журнал «Юность» - Юность, 1974-8
— Это что, мой отец?
— Ну да.
— Как его звали?
— Геной его звали Ты вся как есть в него, такая же складненькая…
— Ты же раньше сказала, что на тебя похожа?
— И на меня, — согласилась мать. — Ты и в него и в меня.
— А он знает обо мне?
— Нет, откуда же? Он уехал, а после, когда ты родилась, я отдала тебя в детский дом…
— И ни разу не приехала ко мне…
Мать закрыла лицо руками. Руки красные, на левой руке серебряный дутый браслет. Сквозь пальцы капают слезы, одна за другой.
— Тебе жаль меня, Лерочка? — спросила мать.
— Жаль, — подумав, ответила Лера.
Ей и в самом деле было жаль эту женщину, которая нежданно-негаданно оказалась ее матерью.
Но еще больше она жалела себя. Когда-то мечталось: вот наступит такой день, найдутся ее родители. Все ребята в детском доме мечтали найти родителей.
Лере представлялась ее мать: тоненькая, белокурая, похожая на артистку Любовь Орлову из кинофильма «Цирк». Мать отыщет ее, и она, Лера, скажет: «Наконец-то…» И все будут завидовать ей, потому что нашлась ее мать да еще такая симпатичная…
А на самом деле все получилось иначе. Плечистая, в красной кофте, с подкрашенными глазами, женщина никак не походила на тот образ, что жил в воображении Леры…
Мать, глядя на Леру, то принималась снова плакать, то молча, судорожно комкала Лерин платок в руках. Она тоже вспоминала… Ее ли вина, что ей хотелось хотя бы немного счастья? Тот, отец Леры, которого звали Геной, уехал и даже не написал ни разу. Что о нем говорить: подлецом оказался. Но и другой, появившийся вслед за ним, был не лучше. И третий тоже. И четвертый. Иных она позабыла. Но все почему-то казались на одно лицо. И слова у них были одинаковые. Они приезжали в дом отдыха кто на десять, кто на пятнадцать дней. И каждый раз думалось: «Это он, настоящий, ее судьба, суженый…» Но кончался срок, одни уезжали, приезжали другие. Снова казалось: вот он, самый верный, единственный. И опять ошибалась. Она знала, многие посмеивались над ней, иная сердобольная подруга пыталась увещевать ее: «Сколько так можно, Галя? Пора бы свою семью завести». Она отвечала с вызовом: «Очень надо! Ходи за ним, обстирывай, а он все одно не оценит…» «И что же, — спрашивали ее, — так лучше?» «Ясное дело, лучше. Я сама себе хозяйка. С кем захочу, с тем' и буду, а носки и рубашки пусть ему законная стирает».
И смеялась, задорно встряхивая травленными перманентом волосами.
На самом же деле никто не знал, как хотелось стирать носки и рубашки ему, единственному, ни с кем не деленному, и готовить для него щи, и пироги печь, и чтобы он говорил: «Против тебя никто не сравняется! Ты самая изо всех лучшая!»
Но эти свои мысли она никому не высказывала и продолжала жить весело, быстро заводя легкие, необременительные связи, которые так же быстро кончались, и говорила всем: «Мне хорошо. Никто надо мной не указчик, никому не желаю подчиняться…»
Между тем как-то незаметно промчались годы.
Всякое случалось — и в больнице лежала, и с одной стройки на другую переезжала, и на рыболовецком сейнере плавала, буфетчицей знакомый рыбак устроил, и уборщицей в парикмахерской работала… А теперь вот маляром на стройке, через год сулят комнату дать.
Растолстела, погрузнела. Что ни день, новые морщинки на лице, и встречи, которых так много бывало в молодости, случаются все реже. Тогда она вспомнила о Лере: ведь у нее есть дочь, стало быть, какая-никакая семья. И надо остановиться, забрать дочь из детдома и жить вместе, по-людски, так, как полагается.
В детском доме ребята все, как один, завидовали Лера.
— Счастливая наша пигалица: мать нашла!..
Ей устроили торжественные проводы. Дело было на Новый год. В зале поставили елку, она переливалась цветными лампочками, серебряная пушистая канитель обвивала ветви.
Лера с матерью сидели в зале, а на сцене выступали участники художественной самодеятельности.
Мать горделиво посматривала на ребят, положив руку на плечо Леры. Ногти на руке покрыты ярким лаком, на безымянном пальце колечко с сиреневым камешком. Глаза почти не намазаны, губы тоже — чуть тронуты помадой: это Лера упросила не мазаться.
Мать согласилась, но сказала:
— Без подмазки я прямо как голая…
— Тебе так лучше, — уверила Лера.
Она старалась изо всех сил привыкнуть к матери. Уговаривала себя: «Это же моя мама, родная мама…»
Вечером после представления Лера ушла вместе с матерью. Ушла насовсем.
Раньше думалось: вот уйдет она из детдома и разом все и всех позабудет, как не было ничего. А на деле оказалось не так. Покидая навсегда детский дом, она уже наперед знала, что будет скучать по девчонкам, дразнившим ее за маленький рост, по мальчишкам, с которыми дружила, даже по директору с его глуховатым голосом и усталым лицом.
Они долго ехали с матерью на трамвае, наконец, добрались до окраины города.
— Вот и наш дом, — показала мать.
Дом был пятиэтажный, стандартный. И кругом все дома были такие же, неотличимые друг от друга.
Слабо горели фонари, снег медленно падал с неба.
— Я пойду вперед, — сказала мать.
Поднялись на третий этаж. Мать отперла дверь.
В коридоре было темно.
— Соседи спят, — прошептала мать. — Идем.
И на цыпочках пошла в глубь коридора.
У нее была маленькая комната. Стол, кровать, комод. На комоде старый радиоприемник «Даугава». Возле окна, на стене, овальное зеркало. Тесно, повернуться негде, хотя, впрочем, уютно.
— Нравится здесь? — спросила мать.
— Нравится, — ответила Лера.
— Я снимаю эту комнату, — сказала мать, — у подруги. Она в столовой работает, недавно замуж вышла, к мужу переехала. А покамест я у нее живу.
— Жаль, что эта комната не своя.
Мать словно бы обрадовалась:
— Будет у нас своя комната, Лерочка! Увидишь, будет. Я теперь на стройке работаю, в домостроительном комбинате, обещают в будущем году дать.
— А кто здесь еше живет? — спросила Лера.
— Еще одна семья. Люди тихие, порядочные…
Мать достала из-под кровати раскладушку.
— Это мне, — сказала она, — ты будешь на кровати.
— Я буду на раскладушке, — решительно заявила Лера.
— Ладно, как знаешь, — сказала мать.
Лера легла. Мать склонилась над ней.
— Удобно тебе?
— Удобно. А ты чего же не ложишься?
Мать молча смотрела на нее, словно не верила своим глазам. Потом села прямо на пол, взяла Лерину руку, прижала к своему лицу.
— Не надо, зачем ты так?
— Ладно, ты спи, — говорила мать и не выпускала Лерину руку из своей…
В одной квартире с Лерой и ее матерью жила семья: мать, сын и его жена. Сын с женой работали на Челябинском тракторном, мать была воспитателем общежития швейной фабрики. Звали ее Ксения Герасимовна.
Лере понравилась Ксения Герасимовна. По всему видно, она была умная, спокойная, доброжелательная.
А у матери Леры резко менялись настроения. То вдруг начинала осыпать Леру бурными поцелуями, то, напротив, приходила с работы какая-то потерянная, на расспросы Леры отвечала:
— Ничего не случилось. Скучно мне, и все…
Иной раз мать пропускала рюмочку-другую. Тогда глаза ее задорно блестели, она беспричинно смеялась, поминутно гляделась в зеркало, охорашивалась и поправляла кудряшки.
— Я еще ничего, — говорила, — еще хоть кудз…
Ксения Герасимовна пыталась порой увещевать ее:
— Галина, у тебя ведь дочь на руках…
Мать беспечально отмахивалась от нее:
— Дочь дочерью, а моя жизнь тоже еще не окончена!
Вскоре Лера поняла: настроение матери зависело от ее очередного увлечения. Мужчины сменяли друг друга. Как только появлялся кто-то новый, мать преображалась, начинала наряжаться, мазать глаза и губы, становилась шумной, веселой и пела любимую песню:
На заре ты ее не буди.
На заре она сладко так спит…
Нередко являлась домой поздно. Зажигала свет и подолгу разглядывала себя в зеркало. От нее пахло вином.
Лера притворялась спящей, но из-под ресниц следила, как мать поворачивалась перед зеркалом то одним боком, то другим и загадочно улыбалась самой себе…
Но как же мгновенно она гасла и тускнела, когда кончалась «любовь»! Лера не знала, куда деваться от вздохов и жалоб на распостылую жизнь, ей не хотелось идти домой, и она старалась подольше задержаться в школе.
Потом появлялся новый ухажер, и мать снова оживала.
Ксения Герасимовна как-то сказала Лере:
— А ты ведь неправа…
— Почему же?
— Ты осуждаешь мать, потому и неправа.
Лера угрюмо пробормотала:
— Сколько так можно? Она уже старая!
— Сорок лет еще не старая.
— Старая, — упрямо повторила Лера.
— Она еще жизни-то настоящей не видела, — сказала Ксения Герасимовна.