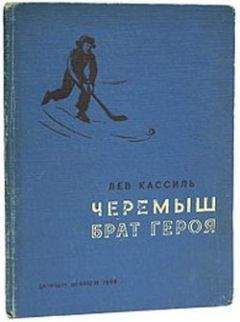Лев Кассиль - Том 2. Черемыш, брат героя. Великое противостояние
Лезть мне было все-таки страшновато. Да и совестно как-то – все-таки уж не маленькая девчонка, взрослая девушка. Я спросила мальчишку:
– А сам ты что не лезешь? Или у тебя пропуск есть?
– Я еще третьего дня пролез… А сегодня это я сестренку встречаю. Только, кажется, не приехала. Ну, подожду еще, а потом и сам обратно полезу. Я уж третью ночь лазаю, все встречаю…
И я полезла. Пришлось для этого лечь на пол плашмя. Скамейки были очень низкие. Я вполне сочувствовала той толстой тетке, которая застряла тут до меня. Вещи мешали мне двигаться. Кафельный пол был холодный и, как мне казалось, мокрый. Пахло карболкой. За первой скамейкой оказалась вторая, за ней – третья. Тут было сдвинуто несколько рядов. Добрых десять минут ползла я на животе, извиваясь между ножками, под этой проклятой баррикадой. Видели бы меня в эту минуту мои пионеры!..
Но вот впереди посветлело, близко, у самой моей головы, зашаркали ноги в сапогах, валенках, галошах. Кто-то остановился в валенках, всунутых в большие, растоптанные боты, у самого моего носа и стоял не двигаясь. Я подождала минутку, другую. Оползти их сбоку было невозможно – мешала ножка скамьи. Вот еще беда, на самом деле! Долго они будут тут стоять? Я не знала, как быть. Может быть, постучать в бот и попросить отойти? Боты имели очень мирный, штатский вид, совсем не военного образца. Но все-таки кто их знает, что там над ними дальше…
Я выглянуть не могла. Тут я вспомнила, что у меня в пальто есть яблоко, которое мне дал Амед. Жалко было с ним расставаться, да что делать! Я достала его – а это тоже было дело нелегкое в моем положении – и, протянув руку из-под скамьи, легонько бросила яблоком в правый бот. Яблоко тихо откатилось, и сейчас же толстая рука в стеганом рукаве опустилась сверху, подхватила мое яблоко, боты задвигались, и я услышала низкий бабий говорок: «Ишь, гляди, яблочки кто-то рассыпал». Теперь бояться было нечего, я стала выползать из-под скамьи, бесцеремонно похлопав ладонью по ботам, чтобы они дали мне дорогу. Один бот взлетел кверху. Потом поднялся второй. Я ничего не понимала: что это, моя баба с яблоком в воздух взлетела, что ли?
Но тут прямо надо мной, заглядывая под скамью, очутилось сморщенное старческое лицо. Очень смешно было видеть снизу, перевернутым, это лицо – волосатые ноздри, загнувшуюся вперед бороду и обвисшие болтающиеся усы.
– Это там кто? – спросил сверху старичок.
– Это тут я.
– Ишь где пристроилась! Ну, вылезай, коли выспалась.
Старичок, оказывается, лежал на скамье, поджав ноги в ботах. И я вылезла. Болели локти и колени, вся я была вымазана чем-то пахнувшим больницей. Я вытащила из-под скамьи свои вещи и огляделась. В двух шагах от меня рослая баба в стеганке с хрустом ела мое яблоко.
Ну, теперь всё. Я бодро зашагала к выходу. Сейчас я выйду в Москву.
Но когда я уже была в дверях, дорогу мне вдруг преградил красноармеец с красной нашивкой на рукаве. На нашивке были две буквы: «К. П.».
– Куда идешь? Стоп!
У меня опять оборвалось сердце.
– Пропуск есть? Все пропало…
– Товарищ, у меня…
– Чего у тебя? Раз ночного пропуска нет, жди комендантского часу.
– А когда это?
– С пяти часов. А до этого ходу по городу нет. Осадное положение, – сказал патрульный.
Тут только я заметила, что все стоят в зале, чего-то ожидая. Никто не выходил. Все ждали утреннего комендантского часа.
Глава 21
На осадном положении
Как тиха и пустынна Москва! Ни души на улицах.
Я выхожу из подъезда вокзала. Пять часов утра на слабо светящихся вокзальных часах.
Тихи и безлюдны улицы. Нигде ни огонька. И ни одного прохожего. Словно город опустел, как я представила себе тогда на островке, когда мир вокруг нас погасил все свои огни.
Гулко раздается стук моих каблуков по панели.
Но нет, он не безлюден, мой большой город. Вон на углу там зашевелились две темные тени, и на мгновение вспыхнула прикрытая сверху ладонью спичка и отразилась в плоском лезвии штыка. А на перекрестке мерно похаживает фигура в плащ-палатке. И под полой ее зажегся зеленый свет. Проехала через улицу грузовая машина с полупритушенными сиреневыми фарами.
И постепенно огромная теплая радость разливается по всему моему существу. Москва! Я вдыхаю сырой, холодный утренний воздух, пахнущий бензином, слегка отдающий гарью очага, – где-то, должно быть, затопили печку. Нет, ты жива, моя Москва! Дымишь и дышишь, ты только притаилась. И вот я иду по Москве. Мне хочется закричать во все горло, чтобы знали все о моем возвращении. И желание это так велико, что я тихонечко шепчу про себя: «Ура!.. Я иду по Москве… Здравствуй, Москва! Это я! Ура!»
Идти мне далеко, вещи оттягивают руки. Я останавливаюсь, перевязываю узлы полотенцем и взваливаю их себе на плечи. Вот так легче. И снова я шагаю по черным московским улицам. Мне никогда не приходилось ходить так рано по Москве. Да и была разве она такой прежде? Я с трудом узнаю улицы в этой кромешной тьме. Сейчас надо подняться к Красным воротам, потом повернуть налево и по широкой Садово-Земляной улице пройти мимо Курского вокзала, Воронцова Поля, а потом спуститься к Яузе, там будет высокий мост. А затем подъем в Таганку. Дальше – Краснохолмский мост, Москва-река и на той стороне набережной – наши новые дома. Как приятно, что я все это знаю, что мне все это знакомо! Я даже рада, что мне надо долго идти по городу, что никого нет кругом.
Я одна, наедине с Москвой.
Недалеко от Курского вокзала какой-то красноармеец спрашивает меня:
– Сестренка, подь сюды. Как на Солянку пройти?
Я объясняю ему подробно, с наслаждением, пространно, называю все повороты, щеголяю названиями: «Швивая горка», «Яузские ворота».
Пусть чувствует, что ему повезло: он спросил у настоящей москвички, этот неизвестный приезжий военный человек.
Начинает светать. Появляются редкие прохожие. Теперь я вижу, что Москва вся наготове. Кругом на склонах Яузы – противотанковые ежи, колья, опутанные колючей проволокой, на углах какие-то приземистые круглые будки с прорезями, бойницами, из которых кое-где уже торчат пулеметы. На перекрестках появились какие-то валы с узкими проходами, заложенными мешками с землей. Значит, здесь готовы ко всему. И город не открыт для врага. Никто не застанет Москву врасплох.
Вот знакомая Таганская площадь. Тут недалеко, в переулке, когда-то мы жили. А вот новый большой мост, где я впервые встретила Расщепея. Я останавливаюсь у его широких, надежных перил и смотрю вниз. Тихо плещется под мостом Москва-река. А там вдали, на светлеющем небе, хорошо видны кремлевские башни.
Что это?.. В утренней тишине слышатся какие-то всему существу моему знакомые переливчатые, словно по лесенке сбегающие звуки. Стойте! Да это же бьют кремлевские куранты! Ветер донес сюда их далекий многоступенный перезвон. И я могу слышать их вот здесь, на месте, не по радио, а просто так, своими ушами! И я чувствую, что сейчас зареву, просто-напросто зареву от радости.
В воротах нашего двора меня окликают:
– Гражданочка, вы к кому?
Это домовая охрана. Я узнаю одного из наших жильцов, старого бухгалтера.
– Товарищ Матюшин, здравствуйте! Это я. Из двадцать восьмой квартиры, Крупицына.
Бухгалтер подходит ближе:
– Крупицына? А разве вы не эвакуированы?
– Нет… То есть почти, но не совсем… то есть, понимаете, вернее, у нас переброска, товарищ Матюшин… ну, вообще это очень долго объяснять…
А над воротами слабенько горит сиреневая лампочка, освещающая табличку: «Дом № 17». Как все это красиво!
В подъезде у нас темно, но тут уже я помню каждую ступеньку. Вот сейчас на повороте будет ямка на перилах. Вот она. Все в порядке. А тут сейчас одна ступенька выбита. Пожалуйста – вот она, эта ступенька.
Уф!.. Наконец я на нашей площадке. Я сбрасываю с себя узлы, вытираю взмокший лоб и осторожно стучусь в дверь. Никто не открывает. Я стучусь сильнее – уже не костяшками пальцев, а кулаком. Прислушиваюсь – за дверью тишина. Я поворачиваюсь спиной к двери и начинаю бить в нее каблуком, как это я делала, когда возвращалась из школы, а мама не слышала меня из-за шума примуса.
Ага! Зашевелились.
– Кто там? – спрашивает незнакомый голос.
Неужели я попала не в свою квартиру?
– Извините, это двадцать восьмая квартира?
– А вам кого?
Падает за дверью цепочка, и дверь приоткрывается. Передо мной стоит человек в синих галифе, в ночных туфлях и в теплой фуфайке.
– Простите, пожалуйста, это двадцать восьмая квартира?
– Вам кого? – повторяет незнакомец.
– Мне наших… Крупицыных.
– Крупицыны выехали, – говорит человек в галифе. – Да вы войдите.
Я вхожу в нашу переднюю. Трюмо в углу завешано газетами, сшитыми черными нитками.