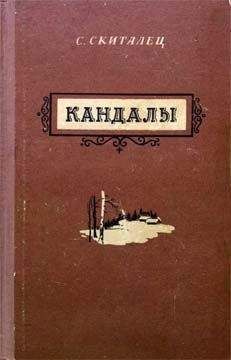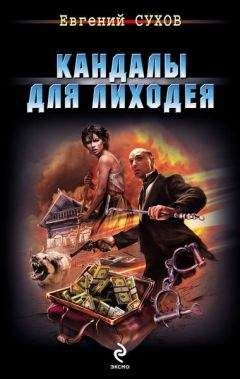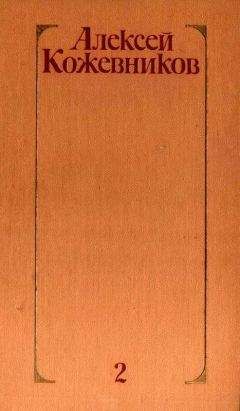Николай Ляшко - Живая вода. Советский рассказ 20-х годов
Женщина равнодушно качала ребенка, даже не оглянувшись.
— Гражданка, — сказал я, сочтя нужным вступиться, — вас оштрафуют за беспорядок. Смотрите, что вы натворили в купе!
Ее раздраженное молчание прорвалось.
— Ну и оштрафуйте! — крикнула она. — У меня дети, вы видите, у меня дети! Ездили бы в мягких, если вам здесь без удобств. Насядутся разные…
Паренек стоял, облокотившись на полку, и только посмеивался. Было непонятно — дерзость это или простота. Я посмотрел ему в лицо пристально и внушительно. Он продолжал добро улыбаться в ответ, улыбаться своей невспоминающейся, будто в давней тревоге виденной улыбкой. Я строго возразил женщине:
— Гражданка, мы не какие-нибудь, а советские служащие.
Имейте в виду.
— И вы заняли одни всю сидячую полку! — крикнула опять, сквозь слезы и шурхая подмоченными юбками, блондинка.
Мне совсем не улыбалась начинающаяся перепалка. Я ушел — и не знаю, сколько часов простоял на площадке, у раскрытого гудящего окна.
Поля протекали бескрайной глухотой. Лиловые линии перевалов поднимались за ними в горизонт, в теплящийся белым заревом край. Чудилась армия из какой-то сказки, идущая по этому горбу в зарю; лица солдат были розовыми от еще невидимого солнца. То было первое песенное веянье Березневатки, земли, принявшей триста товарищей, которых я всех знал по именам. Поезд ночью должен был промчаться над ними своими потушенными спальнями.
…Ночью — незадолго — случилась тревога.
На перегоне Серебряное — Березневатка появилась банда и накануне ограбила скорый. Поэтому на узловой станции в наш поезд садилась вооруженная охрана. Через вагон пронеслось дуновение позабытой грозы, чем-то из девятнадцатого года. Пассажиры кучками собирались в тусклых купе, молодежь смеялась, бородатый гражданин в очках, на верхней полке, волновался: «А черт их знает, может быть, они уже притаились где-нибудь и заранее себе высматривают!..» — «У тебе, должно быть, денег много, что ты слабишь!» — насмехался над ним какой-то веселый косоногий парень, в пузырястых галифе.
В купе зажгли скудный огарок, и женщина, опять не глядя ни на кого, укачивала ребенка. Какие тусклые, коротенькие остались ей в жизни вечера! Паренек с той же молчаливой услужливостью кормил всех на ночь, устраивал постели, бегал за водой. Мне стало душно от них.
Шла прихмуренная, в самом деле бандитская ночь. В вагоне торопливо ложились, чтобы забыть тревогу, чтобы поскорее проснуться в солнце. Одинокая блондинка громоздилась рассерженно на вторую полку, заслонив поместительными, материнскими бедрами все купе. Мне не с кем было встретить эту ночь.
Мне нужно было найти Григория Иваныча. Поезд мчался под уклон, меня шатало по коридору. Дверь площадки бурно отлетела от руки — скрежет, свист и холод. Он был там, но не один, — оба стояли, наклонившись за окно в счастливой оплетенной тесноте…
Я не понял сначала. Конечно, это было лишь потому, что Женечка в самом деле боялась бандитов: ей нужна была теперь чья-нибудь широкая успокаивающая сила. Что другое могло ее толкнуть вдруг под мужицкое крыло?
— Станция будет дальше, я вам покажу… — говорил Григорий Иваныч, и это был голос другого Григория Иваныча, которого я ждал. — А я, вот видите, жив и еще еду на курорт.
А, может быть, года через три опять буду проезжать здесь, и все будет уже незнакомое, а я буду уже знать два языка, вот…
— Расскажите еще… — услышал я, как негромко попросила Женечка или сказала что-то другое, покоренное, прижимающееся; они меня не видели, я тихо закрыл за собой дверь…
Не знаю, почему нахлынула тогда смутная грусть: оттого ли, что я ничего не угадал и жизнь легко растоптала мои вялые мысли, оттого ли, что мне самому хотелось также победителем пройти через жизнь.
И я вернулся в вагон, на свой краешек скамейки, и задремал; и все спали, и смирный паренек спал, сидя напротив меня, уронив голову на железную стойку.
Оставалось недолго до Березневатки. До Березневатки?
Значит, она все-таки в самом деле была на земле?
…В полночь вооруженный контроль проходил проверять документы.
Мутно качающиеся углы мира наполовину тонули в снах.
Паренек тоже тяжело очнулся, попросил у меня огня и рылся в карманах кропотливо.
— Вот пока партийный билет, — наконец, сказал он, — я сейчас разыщу паспорт.
У фонаря двое, стукаясь лбами, осмотрели документ.
— Достаточно, — сказали они с суровой почтительностью.
Мы остались одни в спящей, однообразной, мчащейся тишине. Я почувствовал, что глаза сидящего напротив зовут меня.
— Товарищ, — сказал он вдруг вполголоса, наклоняясь, — я хотел извиниться за давешнее, за жену. Она немного того. — Он добродушно засмеялся. — Она, знаете, нервная, на подпольной работе измоталась.
Я удивился немного, но поспешил вежливо его успокоить, сказав, что все давно забыто. Ему, видимо, хотелось поговорить; он вспомнил о бандитах. Я сказал, что хорошо знаю эту местность — вот тут будет подъем перед Березневаткой, поезд пойдет в выемке, самое удобное место для нападения. Я был здесь с шестой армией, прорвавшей Перекоп.
Он обрадовался:
— Знаю, знаю, она потом вступила в Крым, я ведь тамошний уроженец.
Паренек назвал несколько человек из штаба армии, из особого отдела, несколько начдивов. Моей фамилии — нет, он не помнил.
— А про меня вы, может быть, слыхали? Яковлев, партизан Мы соединялись с шестой армией под Симферополем.
Меня охватило огненным холодком. Это — Яковлев? Да, конечно, я помню: однажды в разведроте дивизии мы с жадным любопытством рассматривали карточку этого невзрачного, играющего с петлей человека, вождя зеленой армии, неуловимо хозяйничавшей во врангелевском тылу. Яковлев! Кто у нас не знал о Яковлеве, о легендарном переходе через зимний хребет Яйлы, по ледяным тропинкам, ведомым лишь зверям? Он мстил за брата, повешенного в Севастополе.
— Тяжелее всего было зимой, но мы все-таки ушли. Скрывались в пещере около Байдар. Вот теперешняя моя жена — через нее мы держали связь с Севастопольским комитетом.
Я слушал этого человека с диким волнением: это уже не вагонная ночь — это своими землями и призраками обступала Березневатка. Он рассказывал еще, что служил начальником милиции где-то в Купянском уезде, а теперь переводится на родину, ближе к Ялте; что они с женой нарочно едут через Севастополь и Байдары. Гул поезда начал звучать мощной и печальной музыкой. Сквозь сон приходил Григорий Иваныч, крадучись, нашел свою шинель и ушел — должно быть, одевал там, у бурного окна, снящиеся послушные плечи.
Сквозь сон набежала из ночи низкая казарма, вся в будоражных огнях, — и я узнал Березневатку.
Я выбежал в заплеванный, с дырявым полированным диваном зал; красноармейцы стояли у рычагов телефона, все с винтовками. В соседней комнате солдаты шаркали ногами и гудели зловеще, как перед погромом. Я прошел в телеграфную:
тот же большеносый, похожий на грачонка, армянин тыкал пальцем в аппарат Юза, нарочно тыкал передо мной, чтобы показать, что вся душа улетела из этих костяных клавиш.
— Нет связи, — сказал он.
— И не будет, — сказал я, — мы отходим.
Я скакал за батальоном, уходящим по горбу горы от смерти; лица братвы были хмуры и розовы от солнца, морозного, надсмертного солнца.
— Где комендантская команда? — спросил я. Над ней начальником был мой брат. Никто не знал. Внизу, за плетнями, отстреливались батальоны, оставленные нами в жертву, обреченные батальоны. Я проехал мимо красноармейцев, лежащих животами на земле, похожих на кучи тряпья, еще живых, еще упорных, еще не знающих ничего. Брат вскочил с земли, бежал к плетню, покрыл его руками, чтобы перелезть.
— Алексей! — крикнул я, удерживая его, — Не туда, Алексей!
Он не оглянулся и остался распятым, как был. Я соскочил и снял с него фуражку: его волосы на затылке слиплись в красном студне, дыра под ними зияла глубоко. Мы, грохоча, пролетали над могилами, которых я не видел никогда, все спали под лелеющее качанье; и спал я.
Рассвет за Перекопом, за Сивашом. Теплая седая трава без берегов, и птицы над миром — и. птицам видно, должно быть, горы и синий рай за ними. У Джанкоя солнце вдруг обрушивается на наш поезд, стены станции начинают сразу пылать, как в полдень; на асфальтовом перроне пышная черная тень, словно его полили водой, и в прохладах продают розы. Да, мы у ворот синего рая! И несет опять в седую степную теплоту — там ветер, даже утренний ветер дует все время с каких-то раскаленных становий, он заставляет блаженно свесить руки из окна, лечь щекой на горячую раму, грезить, петь несвязное…
Я с трепетом нащупываю в себе сегодняшнюю ночь, прислушиваюсь, но нет ее, нет пока ничего, кроме баюкающего мчанья.
Не верю: вывернется еще из какой-то темени, ляжет на мир непрощающей тенью…