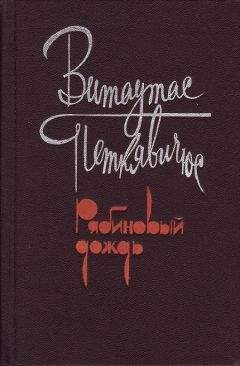Константин Федин - Города и годы
— Счастливо, Покисен, — сказал он.
— До свиданья, Сема.
Они дважды коротко тряхнули друг другу руки, и Голосов вылетел из комнаты.
В сенях он наткнулся на няньку. Она шла со свечой, и непокойный свет трепыхал по ее темным морщинистым щекам. Она придержала Голосова за рукав и старческим шепотком спросила:
— Самовар-от кипит?
— А что?
— Я, мол, ты скоро вернешься, подогреть иль не надо?
— Ладно! — отмахнулся Голосов.
Нянька торопливо дернулась к нему и, как старая заговорщица, посвященная во все тайны, строго спросила:
— Справитесь, что ль?
Тогда на лице Голосова тепло колыхнулась улыбка, и он прикрыл ее ладонькой — обычным своим стыдливым движением.
— Обойдется, няня, — проговорил он и выбежал во двор.
На рассвете в чадной от ламп типографии товарищ Голосов дочитывал гранки воззвания ревтройки «к рабочим, крестьянам и всем честным гражданам Семидола».
Свисавшие со лба волосы все чаще и чаще падали на бумагу. Карандаш дрожал на искривленных строчках жирного, пахнувшего керосином [419] оттиска. Последние слова воззвания были набраны так:
Да здравствует победа рабочих и крестьян во всем пире!
Голосов нацелился затупленным карандашом на букву «п», но длинные прямые космы закрыли вдруг смешавшиеся строки, и голова упала на руку. Голосов что-то пробормотал и повис на столе.
Метранпаж осторожно вытянул оттиск из-под неподвижной косматой головы председателя исполкома.
На третий день сполоха, в понедельник, в дождливые сумерки, вернулись в Семидол военный летчик Щепов с наблюдателем. Они пришли пешком, мокрые, оборванные.
— Где «ньюпор»? — выдавил из себя военком, едва они показались в редакции.
Щепов упал на стул, начал расшнуровывать сапог.
— Я говорил, что нельзя предпринимать разведку без второго пробного полета. Эта старая калоша...
— «Ньюпор», «ньюпор»! — задыхался военком. — Вы сожгли его?
— Не подумал.
— Вы спятили с ума, черт вас...
— Примите донесение.
— Да говорите, черт...
Тогда наблюдатель, поправив грязную перевязку на правой руке, левой вынул из-за пазухи зарисовку местности и положил ее на стол. Военком, пыхтя и отдуваясь, наклонился над смятой бумажкой.
Разведка устанавливала сосредоточение про-[420]тивника в районе села Саньшина, в местности, свободной от леса. Силы противника состояли из небольших пеших отрядов, численность которых не превышала трех-четырех рот. Аванпосты в виде прерывистой цепи стрелков были выдвинуты по тракту к ручьевским садам. Расположения частей в районе Старых Ручьев разведка установить не могла. По предположению наблюдателя, сады были свободны от противника, так как Саньшино лежало на командующей местностью высоте. Непосредственно за нею было установлено нахождение обоза противника. Связи с дальним тылом у неприятеля не было, и на протяжении пятнадцати — двадцати верст, на тракте за Саньшином и по примыкающим к нему проселкам, не было замечено никаких передвижений. Противник не располагал артиллерией, и весь обоз его состоял из провиантских повозок. Фланги противника не прикрыты. Условия освещения при полете были благоприятны, наблюдение совершено с высоты четырехсот метров и относится к воскресенью, к двум часам дня.
— То есть не имеет теперь для нас никакой цены, — сказал Голосов.
Военком запыхтел:
— Вы, товарищ, строите тут всякие предположения насчет Ручьев. Это не ваше дело. В остальном донесение не противоречит данным, полученным другими путями. Ну, а дальше?
— Вам доложит летчик.
— Это все? — воскликнул Голосов.
— Ну, не совсем, — сказал Щепов, расстегивая кожаный пояс и куртку.
Он вытащил из-под рубахи согнутые вчетверо листы бумаги, бросил их на стол, но тут же прихлопнул ладонью. [421]
— Стоп, товарищи, минутку терпения. Обследовав расположение противника, наблюдатель дал мне знак взять высоту восемьсот метров и держать направление по тракту. На двадцатом примерно километре мотор дал взрыв. Я закрыл бензин и стал планировать. Через минуту я попробовал открыть бензин и включил контакт. Четыре взрыва, один за другим. Я закрыл бензин и стал спускаться, взяв вправо от тракта. Я спланировал на поляне, закрытой от дороги молодым дубняком. Я провернул мотор в обратную сторону, проверяя компрессию. В двух цилиндрах ни к черту не годились впускные клапаны. Дело в том, что пробный полет установил как раз...
Голосов, закрыв лицо руками, хохотал. Он дергался от смеха, точно от приступов нестерпимой боли, и его слипшиеся, как лапша, космы тряслись и хлопали по рукам.
Щепов выпрямился и крикнул:
— Какого черта, Семка? Я говорю о деле...
— О деле... хо-хо... о деле, в котором, кроме тебя, на сто верст кругом никто не смыслит! В аварии должна быть ясность? А? Хо-хо!
— А «ньюпор», что с «ньюпором»? — опять заволновался военком.
— Я не могу при таком отношении, товарищ...
— Да не сердитесь вы, Щепов, — словно изнемогая, вздохнул военком.
Щепов забормотал:
— Издевательство! Черт знает что придумал с Клавдией Васильевной, теперь...
— Хо-хо! Чудак! Говори просто!
— Словом... ну, словом, не мог же я, на самом деле, высосать из пальца запасные клапаны! Я вынул из мотора... ну, черт, такую часть, без [422] которой он вообще не мотор... Словом, мы оставили аппарат на месте приземленья.
— Чтобы его спалил противник?
— Он может его и не спалить, потому что никакого противника там нет. А если бы спалили его мы, то у нас...
— Дальше, дальше!
— Мы пошли обходом, лесом, в Лебежайку. Банда заночевала там с субботы на воскресенье, реквизировала лошадей и направилась к Саньшину. Мужики попрятались по избам. Волостной исполком заперт, и на дверях бумажка за подписью... Вот она, смотрите.
Щепов развернул лист бумаги.
Воззвание было написано от руки, плохими, вероятно самодельными, чернилами, печатными буквами.
Русские крестьяне!
Мордовский народ, изнывавший веками под гнетом царских сатрапов, восстал за свою независимость и свободу. Российская революция, провозгласившая право самоопределения угнетенных народов, оказалась на деле ловушкой для доверчивого простого люда. И после революции, как до нее, чиновники при помощи солдат держат в рабском подчинении все инородческие племена.
У мордвы отнимают хлеб, силой набирают рекрутов, реквизируют скот, не считаясь ни с волею народа, ни с бедственным положением, в котором находятся мордовские села.
Русские крестьяне! Вы все знаете, какой мирный и трудолюбивый сосед — мордовский народ. Он безропотно переносил все надругательства царских ставленников, сознавая, что великое русское крестьянство терпит царский гнет вместе с [423] ним. Но терпение мордовского народа иссякло. Он понял, что если он не вырвет своей свободы из рук угнетателей силой, то судьба его будет ужасна. И он восстал.
Мордовский народ видит, что великое русское крестьянство обмануто революционерами так же, как все народы, ходившие под скипетром русского кровавого царя. Мордовский народ с радостью помог бы своим братьям — великому русскому крестьянству, но он слаб и сам нуждается в помощи. Он призывает русских крестьян к совместному братскому восстанию против угнетения и верит, что общими усилиями нетрудно сбросить большевистское иго с плеч землепашца и труженика.
Мордовский народ борется за право свободно распоряжаться своей судьбой. Он не вмешивается в дела великого русского народа, но силой оружия требует, чтобы большевистская власть признала его право на землю, веру, независимость и равенство со всеми другими свободными народами. Освобождению мордовского народа содействуют бескорыстные друзья, которые образовали мордовское ополчение для борьбы с большевиками.
Русские крестьяне! Помогая мордовскому ополчению, вы помогаете самим себе, потому что оно борется с вашими угнетателями.
Мордовский народ призывает всех под свое знамя, которое несет мир для его друзей и смерть его врагам.
Друг мордовской свободы,
командующий ополчением
маркграф фон цур Мюлен-Шенау.
— Бестия! — просопел военком, обмахиваясь, как в жару, газетой. [424]
Голосов затеребил космы, потом сощурился, съежился, точно изготовясь к прыжку.
— Эта бумажка дороже всякой разведки. Теперь у нас есть прицел.
— Из Лебежайки мы направились... — хотел продолжать Щепов, но Голосов не дал ему говорить.
— Ерунда! Все ясно. Остальное — приключения военного летчика в гражданскую войну. Ты расскажешь нам о них когда-нибудь за грибками и маринадом...
Он прикрыл ладонькой улыбку, метнул глазом на Щепова и неожиданно с заботливой серьезностью спросил:
— Ты здоров? Почему ты дрожишь?
Щепов был бледен, и на остекленевшем левом глазу его странно дрожало верхнее веко.