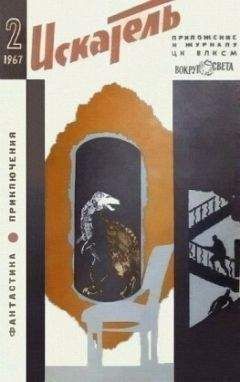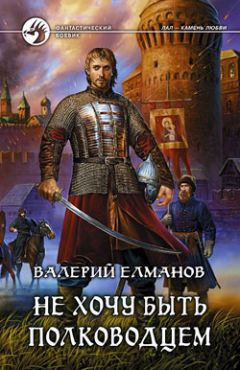Николай Самохин - Рассказы о прежней жизни
Лейтенант перебрал все доводы, начал приводить уже вроде бы неположенные: дескать, чего упираешься, чудило? Там ведь, на фронте, между прочим, убивают. А в школе перекантуешься какое-то время — все отсрочка. Да и потом шансов больше уцелеть: все же снайперов так не косят, как рядовую пехтуру… Наконец, видя, что уговоры отца не прошибают, лейтенант вспылил:
— Да куда ты спешишь-то, дурья башка?! Боишься — без тебя Берлин возьмут?
— Так точно, — ухватился за эту мысль отец. — Опасаюсь — вдруг без меня.
— Долго опасаться придется! — сказал лейтенант и вышел, хлопнув дверью.
Через несколько месяцев под одной деревенькой осколками мины отцу раздробило кисть левой руки.
Тот лейтенант был прав — пехоту на войне выкашивало быстро.
Изуродованная рука была последним шансом отца преуспеть в жизни. В условиях послевоенного дефицита на мужчин, возвратившиеся фронтовики уверенно занимали средние начальственные высоты, вышибая окопавшихся на них белобилетиков и тыловых жучков. Отцу были предложены на выбор три должности: бригадира, завскладом и начальника ВОХР объединенного к тому времени гужтранспортного хозяйства.
Отец отказался от всего.
Он выучился запрягать лошадь одной рукой и поехал по жизни в прежнем качестве.
В общем, на том отрезке окружения, который надлежало удерживать отцу, я мог маневрировать сколько угодно. Что я и делал. Закончив семилетку, я собрался в мореходное училище и объявил дома о своем решении. Но потом передумал и поступил в металлургический техникум.
Отец долго удивлялся: почему я не ношу морскую форму? То, что от города Сталинска до ближайшего моря — четыре тысячи километров, его ничуть не настораживало.
Я бросил техникум и снова пошел в школу, получил аттестат зрелости, уехал в другой город и однажды заявился домой на каникулы в форме студента водного института.
Отец, решивший, что видит перед собой флотского офицера, одобрительно сказал:
— Все же добился своего?.. Молодцом!
Дядьки мои были людьми веселыми и беспечными. Дядя Паша (они после того самоварного погрома скоро помирились с отцом, хотя вместе жить больше не стали) поднимал меня высоко над головой и, указывая на пролетающий аэроплан, спрашивал:
— Будешь летчиком, Колька?
— Нет, — отвечал я, — боюсь. — А чего ты боишься?
— Полечу над Абушкой — упаду и утопну. Дядя Паша хохотал:
— Ну, утопнуть не утопнешь, а перемажешься — это точно! — И отступался от меня.
Я и сам знал к тому времени, что в Абушке утонуть невозможно, но такой отпет был лучшим способом отвязаться от осоаивахимовца дяди Паши.
Совсем молодой дядя Ваня — брат матери — был так занят ухаживанием за своей тоненькой пухлогубой невестой, что вовсе меня не замечал.
Гости, приходившие в наш дом, твердили в один голос:
— Ну, этот артистом будет!
В то время, перед войной, к нам часто приходили гости. Они снимали пиджаки, рассаживались — нарядные и оживленные — вокруг стола, шумно спорили о чем-то и пели песни:
По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год…
Находилось дело и для меня. Я взбирался на табуретку и читал стихи про генерала Топтыгина.
— Артист, артист! — одобрительно говорили гости и бросали в мою глиняную кошку-копилку серебряные монетки.
По однажды к нам пришел третий дядька — дядя Кузя. Они о чем-то пошептались с матерью, а потом посадили меня напротив, и мать сказала:
— Вот дядя Кузя просит у тебя денег взаймы. Ты как — выручишь его?
Я тебе их верну, — заторопился дядя Кузя. — С добавкой верну.
Кошечку ударили молотком — и горка серебра рассыпалась по столу.
Дядя Кузя уважительно присвистнул:
— Ай да Никола! Какие деньжищи скопил!.. Быть тебе наркомом финансов.
Предсказание его, конечно, не сбылось. Сам же дядя Кузя этому способствовал. Целый год он рассчитывался со мной конфетками и мороженым и так развратил меня, что я до сих пор предпочитаю конфетку во рту гривеннику на сберкнижке.
Естественно, что при таком странном, не от мира сего, папаше и таких ненастойчивых родственниках семейное окружение осуществляла у нас преимущественно мать. Ей приходилось удерживать весь огромный фронт, протяженностью от наших попыток утонуть в речке до намерений бросить школу, не доучившись до пятого класса. Конечно, в такой напряженной обстановке матери некогда было прогнозировать наше будущее. Все её надежды и упования сведены были поэтому к минимальной программе: лишь бы по тюрьмам не пошли.
В основном мать вела ближний бон, используя для этого подручные средства: ремень, мокрую тряпку, бельевую верёвку, веник-голик, резиновую калошу, сковородник и валенок. Ежедневно, в среднем, две с половиной лупцовки приходились на старшую сестру, полторы — на меня и одна четвертная — на младшего брата. Столь неравномерное распределение объяснялось тем, что зa провинности младшего брата чаще попадало нам, как недоглядевшим.
Казалось бы, эти непрекращающиеся бои местного значения должны были отнять у мамаши все силы. Тем не менее, когда она сталкивалась не с рядовым нашим озорством, когда ей мерещилась опасность нравственного падения, она умела превратиться в незаурядного стратега, Я до сих пор дивлюсь тому стихийному таланту воспитателя, который мать — почти безграмотная, никогда не читавшая книг женщина — обнаруживала в иные моменты.
Однажды мы с товарищем принесли домой маленький аккуратный топорик.
— Где взяли? — насторожилась мать.
— Нашли! — похвастались мы и взахлеб принялись рассказывать: — Мы идем, да… глядим, да… он лежит!
— Ну-ка, ну-ка, где же это он лежал? Мы объяснили — где.
У всех на нашей улице огороды спускались к согре. Здесь, на границе с согрой, многие выкапывали ямки-колодцы для полива. Вот возле такой замерзшей уже и продолбленной ямки и лежал полузасыпанный снегом топор.
— Ах, вражьи дети! — всплеснула руками мать. — Вы же его украли!
Мы позволили себе не согласиться. Даже обиделись: как это так? Ямка — вон где, а топорик вовсе сбоку лежал, шагах в пяти.
Тогда мать стала задавать нам вопросы: приходилось ли нам видеть, чтобы топоры росли на деревьях? падали с неба? вылуплялись из яичек?.. Не видели. Та-ак… Значит, это чужой топорик. Кто-то смастерил его. Или купил в магазине. А мы украли. И выходит — мы воры. Самые настоящие.
— А теперь, сынки мои милые, — сказала мать жестким голосом (это она умела — говорить ласковые слова жестким голосом), — теперь, голуби ясные, ступайте обратно и положите его на место. Да глядите у меня, если встретите там, возле ямки, дяденьку или тетеньку, скажите им: дяденька, мол, или тетенька, мы топор ваш украли — возьмите назад. Укра-ли! Не нашли, а украли. Слышите? А я потом схожу — проверю: так ли вы сказали.
Что красть нельзя, мы знали. Вернее так: мы знали, что красть опасно.
Мне приходилось даже видеть, как бьют воров.
Первый раз это был голодный ремеслушник. Его поймали рано утром в огородах возле заводских бараков. Поймали ремесленника женщины и, наверное, давно уже били, потому что, когда я поравнялся с толпой (я бежал в магазин за хлебом), они как раз перестали махать руками и стояли вокруг него, разгоряченно дыша. Было очень тихо.
Из-за крыш бараков настороженно выглядывало маленькое и неяркое, затушеванное туманом солнце.
Четыре вывороченных куста картошки увядали на краю огорода.
У ремеслушника были остановившиеся неживые глаза, штаны с него сползли, открыв синий живот и тощие ягодицы, из носа на подбородок текло красное. Он медленно покачивался.
В этот момент в круг протиснулся подоспевший к шапошному разбору единственный мужичонка — маленький, щуплый, востроносый. Видать, он слышал где-то о том, как расправляются с ворами настоящие сильные мужчины: поднимают над землей и с маху сажают на копчик. И ему захотелось показать перед бабами свою силу, а ее не было. Мужичонка брал ремеслушника под коленки, поднатужившись, чуть-чуть отрывал от земли и ронял… Отрывал и ронял… Отрывал и ронял…
На лице его дрожала гадостная виноватенькая улыбка: погодите, дескать, маленько, сейчас еще разок спробуем, может, получится…
В другой раз били Кольку Хвостова с нашей улицы.
Колька был уже не мальчишка, а парень, но слабоумный малость: нигде не работал, не учился, пакостил соседям, и мать с отцом плакали от него слезами.
Он стянул что-то из сеней у многодетной солдатки тёти Поли и был схвачен.
Его тоже поймали женщины. Они вели Кольку, растянув за руки, вдоль улицы, а навстречу, из-под горки, бежал от своего дома сосед тети Поли Алексей Гвоздырин, оказавшийся в этот день не на работе. Гвоздырин набежал на Кольку и стал хлестать его справа и слева своими черными кулачищами.