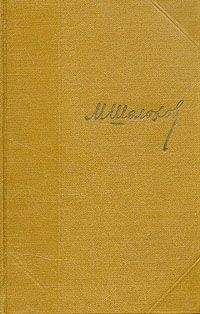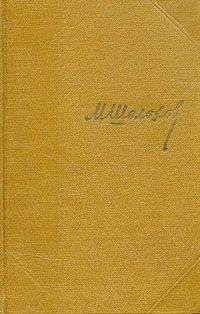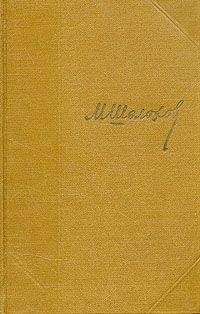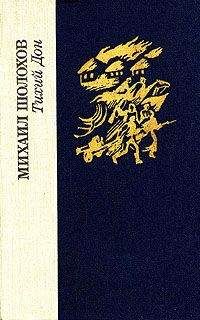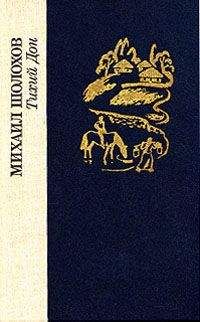Михаил Шолохов - Том 4. Тихий Дон. Книга третья
— Ну, что же, братцы, давайте помянем своих хуторян, покурим за упокой их, — предложил Григорий и, отойдя в сторону, отпустил подпруги на седле, разнуздал коня и, примотав повод к левой передней ноге его, пустил пощипать шелковистой, стрельчато вытянувшейся зеленки.
Антип и Стремянников охотно спешились, стреножили коней, пустили на попас. Прилегли. Закурили. Григорий, поглядывая на клочковатошерстого, еще не вылинявшего быка, тянувшегося к мелкому подорожнику, спросил:
— А Шамиль как погиб?
— Веришь, Пантелевич, — через свою дурь!
— Как?
— Да видишь, как оно получилось, — начал Стремянников. — Вчера, солнце с полден, выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой вахмистра… Чей он, Антип, вахмистр наш, с каким вчера ездили?
— А чума его знает!
— Ну, да черт с ним! Он — незнакомый нам, чужой сотни. Да-а-а… Стал-быть, едем мы себе, четырнадцать нас казаков, и Шамиль с нами. Он вчера весь день был веселый такой, значится сердце его ничего ему не могло подказать! Едем, а он култышкой своей мотает, повод на луку кинул и гутарит: «Эх, да когда уж наш Григорий Пантелеев приедет! Хучь бы выпить с ним ишо да песенки заиграть!» И так, покеда доехали до Латышевского бугра, все раздишканивал:
Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи.
Из берданочков стреляли,
Все — донские казачки!
И вот таким манером съехали мы — это уже возле ажник Топкой балки — в лог, а вахмистр и говорит: «Красных нигде, ребята, не видать. Они, должно, ишо из слободы Астаховой не выгружались. Мужики — они ленивые рано вставать, небось до се полуднуют, хохлачьих курей варют-жарют. Давайте и мы трошки поотдохнем, а то уж и кони наши взмокрели». — «Ну, что ж, — говорим, — ладно». И вот спешились, лежим на траве, одного дозорного выслали на пригорок. Лежим, гляжу, Алешка, покойник, возля своего коня копается, чересподушечную подпругу ему отпущает. Я ему говорю: «Алексей, ты бы подпруги-то не отпущал, а то, не дай бог такого греха, прийдется естренно выступать, а ты когда ее подтянешь, подпругу-то, своей калекой-рукой?» Но он оскаляется: «Ишо скорей тебя управлюсь! Ты чего меня, кужонок зеленый, учишь?» Ну, с тем ослобонил подпругу, коня разнуздал. Лежим, кто курит, кто сказочками займается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже придремал. Лег — туды ж его в перемет! — под кургашек и сны пущает. Только слышу — вроде издалека конь пырскнул. Лень мне было вставать, но все ж таки встал, вылез из того лога на бугор. Глядь, а с сотенник от нас по низу балочки красные едут. Попереди у них командир на гнедом коне. Конь под ним, как илев. И дисковый пулемет везут. Я тут кубырком в лог, шумлю: «Красные! По коням»! И они могли меня узрить. Зараз же слышим — команду у них там подают. Попа́дали мы на коней, вахмистр было палаш обнажил, хотел в атаку броситься. А где же там в атаку, коли нас — четырнадцать, а их полусотня, да ишо пулемет при них! Кинулись мы вѐрхи бечь, они было полосканули из пулемета, но только видют, что пулеметом им нас не посечь, затем что спасает нас балка. Тогда они пошли в угон за нами. Но у нас кони резвей, отскакали мы, сказать, на лан длиннику, упали с коней и зачали весть отстрел. И только тут видим, что Алешки Шамиля с нами нету. А он, значит, когда поднялася томаха — к коню, черк целой рукою-то за луку, и только ногой — в стремю, а седло — коню под пузо. Не вспопашился вскочить на коня и остался Шамиль глаз на глаз с красными, а конь прибег к нам, из ноздрей ажник полымем бьет, а седло под пузой мотается. Такой полохливый зараз стал, что и человека не подпущает, храпит, как черт! Вот как Алексей дуба дал! Кабы не отпущал чересподушечную, — живой бы был, а то вот… — Стремянников улыбнулся в черненькие усики, закончил: — Он надысь все игрывал:
Уж ты, дедушка-ведьмедюшка,
Задери мою коровушку, —
Опростай мою головушку… Вот ему и опростали ее, головушку-то… Лица не призначишь! Там из него крови вышло, как из резаного быка… Посля, когда отбили красных, сбегли в этот ложок, видим — лежит. А крови под ним — огромадная лужчина, весь подплыл.
— Ну, скоро будем ехать? — нетерпеливо спросила подводчица, сдвигая с губ кутавший от загара лицо головной платок.
— Не спеши, тетка, в лепеши. Зараз доедем.
— Как же не спешить-то? От этих убиенных такой чижелый дух идет, ажник с ног шибает!
— А с чего же ему легкому духу быть? И мясу жрали покойники и баб шшупали. А кто этими делами займается, энтот ишо и помереть не успеет, а уж зачинает приванивать. Гутарють, кубыть у одних святых посля смерти парение идет, а по-моему — живая брехня. Какой бы святой ни был, а всё одно посля смерти, по закону естества, должно из него вонять, как из обчественного нужника. Всё одно и они, святые-то, через утробу пищу примают, и кишок в них обретается положенные человеку от бога тридцать аршин… — раздумчиво заговорил Антип.
Но Стремянников неизвестно отчего вскипел, крикнул:
— Да на черта они тебе нужны? Связался со святыми! Давай ехать!
Григорий попрощался с казаками, подошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами и только тут заметил, что они все трое разуты добоса, а три пары сапог подостланы голенищами им под ноги.
— Зачем мертвых разули?
— Это, Григорь Пантелевич, наши казаки учинили… На них, на покойниках-то, добрая обувка была, ну, в сотне и присоветовали: доброе с них поснять для энтих, у кого плохонькая на ногах справа, а плохонькую привезть в хутор. У покойников ить семьи есть. Ну детва ихняя и плохую износит… Аникушка так и сказал: «Мертвым ходить уж не придется и ве́рхи ездить — тоже. Дайте мне Алешкины сапоги, под ними подошва дюже надежная. А то я, покуда добуду с красного ботинки, могу от простуды окочуриться».
Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор. Стремянников звонким тенорком кричал:
— Брешешь ты, Брехович! На то и батяня твой был Брех! Не было из казаков святых! Все они мужичьего роду.
— Нет, был!
— Брешешь, как кобель!
— Нет, был!
— Кто?
— А Егорий-победоносец?
— Тюууу! Окстись, чумовой! Да рази ж он казак?
— Чистый донской, родом с низовой станицы, кубыть Семикаракорской.
— Ох, и гнешь! Хучь попарил бы спервоначалу. Не казак он!
— Не казак? А зачем его при пике изображают?
Дальше Григорий не слышал. Он тронул рысью, спустился в балочку и, пересекая Гетманский шлях, увидел, как подвода и верховые медленно съезжают с горы в хутор.
Почти до самой Каргинской ехал Григорий рысью. Легонький ветерок поигрывал гривой ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебегали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. На буграх, на вершинных гребнях сбоку от дороги взлетывали самцы-стрепеты. Снежно-белый, искрящийся на солнце стрепеток, дробно и споро махая крыльями, шел ввысь, и достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лете шею, опоясанную бархатисто-черным брачным ожерелком, удаляясь с каждой секундой. А отлетев с сотню саженей, снижался, еще чаще трепеща крылами, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперенье крыльев и гасло: стрепет исчезал, поглощенный травой.
Призывное, неудержимо-страстное «тржиканье» самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле причирского бугра, в нескольких шагах от дороги, Григорий увидел с седла стрепетиный точок: ровный круг земли, аршина полтора в поперечнике, был плотно утоптан ногами бившихся за самку стрепетов. Ни былки не было внутри точка; одна серая пылица, испещренная крестиками следов, лежала ровным слоем на нем, да по обочинам на сухих стеблях бурьяна и полыни, подрагивая на ветру, висели бледнопестрые с розовым подбоем стрепетиные перья, вырванные в бою из спин и хлупей ратоборствовавших стрепетов. Неподалеку вскочила с гнезда серенькая, невзрачная стрепетка. Горбясь, как старушонка, проворно перебирая ножками, она перебежала под куст увядшего прошлогоднего донника и, не решаясь подняться на крыло, затаилась там.
Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественная и полная кипучего биения, разворачивалась в степи: буйно росли травы; сокрытые от хищного человеческого глаза, в потаенных степных убежищах понимались брачные пары птиц, зверей и зверушек, пашни щетинились неисчислимыми остриями выметавшихся всходов. Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян — перекати-поле — понуро сутулился на склонах, рассыпанных по степи сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но живительный, свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, катил вдоль и поперек по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи.