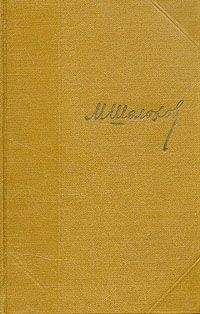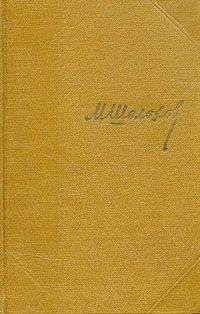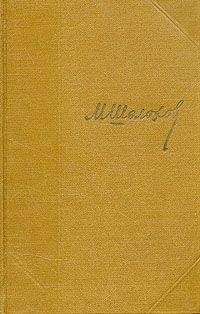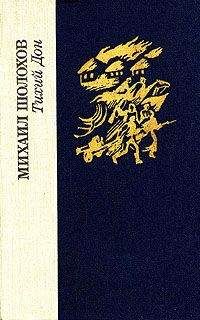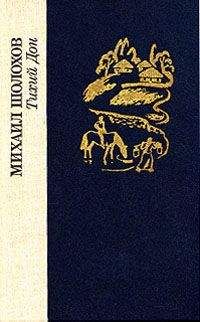Михаил Шолохов - Том 4. Тихий Дон. Книга третья
Оратору не пришлось закончить речь. С запада в станицу Усть-Хоперскую на рысях вошли две конные повстанческие сотни, с южного склона обдонских гор спускалась казачья пехота, под охраной полусотни съезжал со штабом командир 6-й повстанческой отдельной бригады хорунжий Богатырев.
И тотчас же из надвинувшейся с восхода тучи хлынул дождь, где-то за Доном, над Хопром разостлался глухой раскат грома.
Сердобский полк начал торопливо строиться, сдвоил ряды. И едва с горы показалась штабная конная группа Богатырева, бывший штабс-капитан Вороновский еще не слыханным красноармейцами командным рыком и клекотом в горле заорал:
— По-о-олк! Смирррр-на-ааа!..
LГригорий Мелехов пять суток прожил в Татарском, за это время посеял себе и теще несколько десятин хлеба, а потом, как только из сотни пришел исхудавший от тоски по хозяйству, завшивевший Пантелей Прокофьевич, — стал собираться к отъезду в свою часть, попрежнему стоявшую по Чиру. Кудинов секретным письмом сообщил ему о начавшихся переговорах с командованием Сердобского полка, попросил отправиться, принять командование дивизией.
В этот день Григорий собрался ехать в Каргинскую. В полдень повел к Дону напоить перед отъездом коня и, спускаясь к воде, подступившей под самые прясла огородов, увидел Аксинью. Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг, и за короткую минуту, пока подошел к Аксинье вплотную, светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним…
Аксинья повернулась на звук шагов, на лице ее — несомненно притворное — выразилось удивление, но радость от встречи, но давняя боль выдали ее. Она улыбнулась такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, он придержал коня, сказал:
— Здравствуй, Аксинья дорогая!
— Здравствуй.
В тихом голосе Аксиньи прозвучали оттенки самых чужеродных чувств — и удивления, и ласки, и горечи…
— Давно мы с тобой не гутарили.
— Давно.
— Я уж и голос твой позабыл…
— Скоро!
— А скоро ли?
Григорий держал напиравшего на него коня под уздцы, Аксинья, угнув голову, крючком коромысла цепляла ведерную дужку, никак не могла зацепить. С минуту простояли молча. Над головами их, как кинутая тетивой, со свистом пронеслась чирковая утка. Ненасытно облизывая голубые меловые плиты, билась у обрыва волна. По разливу, затопившему лес, табунились белорунные волны. Ветер нес мельчайшую водяную пыль, пресный запах с Дона, могущественным потоком устремлявшегося в низовья.
Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи на Дон. Затопленные водой бледноствольные тополя качали нагими ветвями, а вербы, опушенные цветом — девичьими сережками, пышно вздымались над водой, как легчайшие диковинные зеленые облака. С легкой досадой и огорчением в голосе Григорий спросил:
— Что же?.. Неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?
Но Аксинья успела овладеть собой; на похолодевшем лице ее уже не дрогнул ни единый мускул, когда она отвечала:
— Мы свое, видно, уж отгутарили…
— Ой ли?
— Да так уж, должно быть! Деревцо-то — оно один раз в году цветет…
— Думаешь, и наше отцвело?
— А то нет?
— Чудно̀ все это как-то… — Григорий допустил коня к воде и, глядя на Аксинью, грустно улыбнулся. — А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропастью легли… А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю донынче. А вздумаю о тебе иной раз, начну вспоминать, как жили у Листницких… как любились с тобой… и от воспоминаний этих… Иной раз, вспоминаючи всю свою жизнь, глянешь, — а она, как порожний карман, вывернутый наизнанку…
— Я тоже… Мне тоже надо идтить… Загутарились мы.
Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла покрытые вешним загаром руки, было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию лицом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий, молодой румянец.
— А ить, никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась, Григорий. Помнишь? Казаков в энтот день в лагеря провожали, — заговорила она, улыбаясь, и в окрепшем голосе ее зазвучали веселые нотки.
— Все помню!
Григорий ввел коня на баз, поставил к яслям. Пантелей Прокофьевич, по случаю проводов Григория с утра не поехавший боронить, вышел из-под навеса сарая, спросил:
— Что же, скоро будешь трогаться? Зерна-то дать коню?
— Куда трогаться? — Григорий рассеянно взглянул на отца.
— Доброго здоровья! Да на Каргины-то.
— Я нынче не поеду!
— Что так?
— Да так… раздумал… — Григорий облизал спекшиеся от внутреннего жара губы, повел глазами по небу. — Тучки находят, должно дождь будет, а мне какой же край мокнуть по дождю?
— Краю нет, — согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут назад видел со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять ухажи начались, — с тревогой думал старик. — Опять как бы не пошло у него с Натальей наперекосяк… Ах, туды его мать с Гришкой! И в кого он такой кобелина выродился? Неужли в меня?» Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором березовый ствол на дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, наскоро порывшись в памяти, вспомнил, каким сам был смолоду, решил: «В меня, чертяка! Ажник превзошел отца, сучий хвост! Побить бы его, чтобы сызнова не начинал морочить Аксинье голову, не заводил смятения промеж семьи. Дак как его побить-то?»
В другое время Пантелей Прокофьевич, доглядев, что Григорий разговаривает с Аксиньей вдвоем, наиздальке от людей, не задумался бы потянуть его вдоль спины чем попадя, а в этот момент — растерялся, ничего не сказал и даже виду не подал, что догадался об истинных причинах, понудивших Григория внезапно отложить отъезд. И все это — потому, что теперь Григорий был уже не «Гришкой» — взгальным молодым казаком, а командиром дивизии, хотя и без погонов, но «генералом», которому подчинялись тысячи казаков и которого все называли теперь не иначе, как Григорием Пантелеевичем. Как же мог он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего-навсего в чине урядника, поднять руку на генерала, хотя бы и родного сына? Субординация не позволяла Пантелею Прокофьевичу даже помыслить об этом, и оттого он чувствовал себя в отношении Григория связанно, как-то отчужденно. Всему виной было необычайное повышение Григория! Даже на пахоте, когда третьего дня Григорий сурово окрикнул его: «Эй, чего рот раззявил! Заноси плуг!..» — Пантелей Прокофьевич стерпел, слова в ответ не сказал… За последнее время они как бы поменялись ролями: Григорий покрикивал на постаревшего отца, а тот, слыша в голосе его командную хрипотцу, суетился, хромал, припадая на искалеченную ногу, старался угодить…
«Дождя напужался! А его, и дождя-то, не будет, откель ему быть, когда ветер с восходу и единая тучка посередь неба мельтешится! Подказать Наталье?»
Озаренный догадкой, Пантелей Прокофьевич сунулся было в курень, но раздумал; убоявшись скандала, вернулся к недотесанной дрожине…
А Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу, вмазанному в камень печи, и долго взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость.
Постояла Аксинья, а потом подошла к кровати, упала ничком и заплакала такими обильными, облегчающими и сладкими слезами, какими не плакала давным-давно.
Зимою над крутобережным скатом обдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в просторечье «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры. Они несут с покрытого голызинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно-искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледносиреневая по утрам и розовая на восходе солнца — повиснет над обрывом снежная громадина. Будет она, грозная безмолвием, висеть до поры, пока не подточит ее из-под исподу оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая, застенчиво жмущиеся по склону, деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной пыли…
Многолетнему чувству Аксиньи, копившемуся подобно снежному наносу, нужен был самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковое: «Здравствуй, Аксинья дорогая!» А он? Он ли не был ей дорог? Не о нем ли все эти годы вспоминала она ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях возвращаясь все к нему же? И о чем бы ни думала, что бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно в думках своих была около Григория. Так ходит по кругу в чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо…