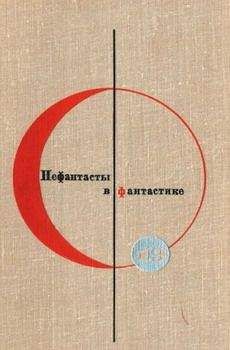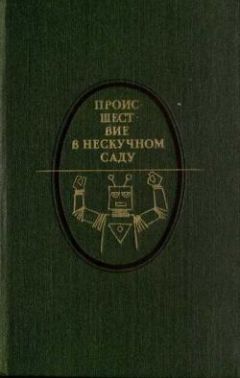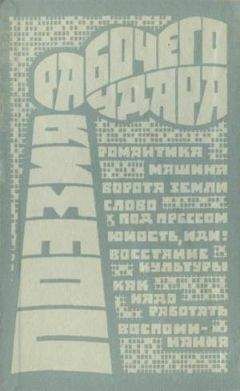Всеволод Иванов - Пасмурный лист (сборник)
Когда началась война, он подумал, что нет ничего благородней походов, – путешествия, шествия в пути, – воина, защищающего свою родину. С трепетом явился он на призывной пункт. Сердце и ноги его нашли отличными, но глаза… посмотрев в его глаза, ему сказали: «В крайнем случае, мы можем вас зачислить нестроевым. Но мы уверены, что ваша кафедра – ваш строй, ваша война». После того как это было ему сказано, Сергей Сергеич с жаром, почти багряным, с цветистостью, почти луговой, с доблестью, почти непобедимой, и с добродетелью, абсолютно святой, читал свои лекции о западной литературе. «Есть кафедра западных литератур! – восклицал он. – Но в такую войну, как теперешняя, нет Запада и Востока, а есть прогресс, цивилизация, защита культуры. Вы, наполняющие зал, вы дети Шекспира и Навои, Данте и Пушкина, Расина и Шевченко, Э. По и Достоевского, М. Горького и В. Гюго, – вы защитники мира и свободы!» Большая, переполненная аудитория института гремела благодатными, как весенний дождь, рукоплесканиями. Руководство института, примирившись с его чудачествами, серьезно поставило вопрос о присвоении ему звания профессора. Правда, заведующий кафедрой сказал: «Жаль только, что он не любит путешествовать, это в наши дни носит некий оттенок консерватизма». И все улыбнулись. Впрочем, это была хорошая улыбка. В конце концов городу нравился этот чудак, не любящий путешествовать. Пусть в городе, наполненном самыми яростными путешественниками, из всех, когда-либо существовавших, будет один, который никогда не путешествовал! Понятно поэтому, что студент Валерьянов нравится Сергею Сергеичу. Ну, во-первых, шутили, что у студента «такая успокаивающая фамилия», во-вторых, мощная фигура, способная пролезть и пройти через любые дебри, и вместе с тем беспечное, – хоть он и старается его хмурить, – беспечное детское лицо. Он – силен. Единственный недостаток студента – ранение в область сердца, но если сердце не остановилось, его уже не остановишь, оно выберется из любых неприятностей. Человек есть существо, приводящее других в восторг. Вот его назначение, вот его сила, вот его подвиг! И как восторг нельзя разжижить и разрядить, так же нельзя столкнуть человека с пути подвига и счастья. И, наконец, студент Валерьянов много путешествовал. Пусть он делится своими воспоминаниями с доцентом. Без спутника тому не обойтись. Трудно теперь произвести Сергею Сергеичу модификацию, изменение своего вида, хо-хо-хо… Так думал город о Сергее Сергеиче. Много было истины в этих думах, но, как видите, имелись кое-какие и ошибки. Впрочем, почему же не быть ошибкам? Сергея Сергеича нельзя поставить в ряд с великими людьми, а, как известно, даже в оценке великих людей современниками случались ошибки.
Пока Сергей Сергеич размышлял о своем теперешнем чрезмерном беспокойстве, о своем положении в городе, вернулся студент Валерьянов. В рюкзаке за его спиной позвякивали сухари и торчал кусок солдатского одеяла.
– Я готов, – сухо и отрывисто сказал он.
Сергей Сергеич необыкновенно обрадовался.
– Прекрасно! Прекрасно, Валерьянов, – залепетал он. – Покуда есть в атмосфере тепло и не грянули холода, мы можем увидеть явление «оранжевой ленты». Я нашел способ приманить к земле эти странные организмы, обитающие в аэрозолях. А то придут морозы, и существа подохнут, как щенки. Тридцать – сорок градусов мороза, ха-ха-ха!.. Хотел бы я посмотреть, как они себя там почувствуют под норд-вестом. У нас зимой яростные норд-весты, не правда ли, Валерьянов?
Студент, поправляя за плечами рюкзак, проговорил:
– Прежде чем сесть в машину, должен предупредить вас, Сергей Сергеич, что я не верю в эти ваши оранжевые существа. И если еду, так еду из человеколюбия. Раз вы доподлинно узнали, что девочка ушла по Московскому шоссе…
– Доподлинно, доподлинно. Личный и вдумчивый намек Ольги Осиповны, из которого я заключил: по Московскому шоссе! Умнейшая женщина, пленительнейшая!.. Она и рекомендовала мне: обратиться к врачу Афанасьеву. Тот по поручению Облздравотдела едет в район, и как раз по Московскому шоссе. Афанасьев – душа и без того, а для Ольги Осиповны – особенно. Очаровательная женщина! Вся она розовая, сверкающая… В ней есть что-то от терцины, не правда ли, Валерьянов?
Они пересекли сад и вышли к липовой аллее, за которой высились чугунные институтские ворота, необыкновенно узорчатые, в розовых лучах рассвета похожие на иконостас.
– От терцины? – сразу не поняв доцента, спросил недоуменно Валерьянов.
– Ну да, от терцины! Знаете, у Пушкина?..
В начале жизни школу помню я;
Нас там, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго…
– Насчет величавости – ваша точка зрения, – пробормотал студент, – а только какая же она смиренная? Да и одета не убого, насколько я мог заметить…
Лиловую аллею подметал дворник, старый-престарый, сутулый-пресутулый. Он не столько мел, сколько опирался на метлу, такую же древнюю, как он сам. Воздух был неподвижен, сух, а пыль и опавшие листья, поднятые метлой, застывали неподвижно, похожие на старинные кружева. Кружевные стояли за аллеей ворота, весь в бронзовых кружевах, грузно возвышается за воротами старинный собор, и маленькая здравотделовская «эмка» у ворот похожа на пуговицу. Переводя взор с дворника на ворота, а оттуда – на разноцветный сонм куполов, доцент, не слушая Валерьянова, говорил:
– Когда Данте искал для «Божественной комедии» подходящую стихотворную форму, он создал терцину. Под влиянием Данте эта строфа распространилась по всему миру. И если Данте использовал ее для грозных и обличительных своих замыслов, Пушкин – для лирических, мы – для…
– Так то ж Данте да Пушкин! – в негодовании пробурчал студент. – Куда-а мы к ним со своими терцинами?
Доцент прервал свою речь. «Кажись, я не того… – подумал он, с тревогой наблюдая свое неоглядно беспокойное состояние. – Кажись, я глупости порю? С чего бы, когда такой ответственный момент?»
В машине, скрестив на груди могучие руки, спал у руля врач Афанасьев. Сложения врач сверхъестественного, голос его громоподобен, и, хотя ему за шестьдесят, волосы его целы и черны, и никто ему не дает больше сорока. Похоже, что он знает секрет вечной молодости, во всяком случае, среди больных он считается лучшим врачом. Живет он широко, страстей у него много, но самая главная – страсть к морю.
Заваленный по горло практикой и преподаванием на разных курсах, он в течение войны ни разу не видел моря. Он тоскует по морю, не снимает с плеч морской куртки с золотыми якорями на пуговицах и тоску свою выливает в рассказах. Рассказы его грубы и описывают самые примитивные чувства: обжорство, драку, погоню за зверями, столкновения с разбушевавшейся стихией, но говорит он так горячо, что у слушателей дух захватывает. Конечно, с тоски по морю Афанасьев рассказывает чересчур густо, он и сам понимает это, – прощаясь со слушателем, он так жмет тому руку, что слушатель шатается от боли, – и, однако, не эта ли густота прельстительна? Только перед одним Сергеем Сергеичем врач не испытывает шершавого чувства неловкости: Сергей Сергеич верит каждому слову «ценителя моря».
– Едем?
Врач просыпается. Он с неудовольствием рассматривает детски трезвое, круглое лицо студента. Студент, несомненно, будет мешать рассказам, но Афанасьев верит в свои силы: зажгу!.. Зевая, он заводит мотор и говорит:
– А мне, батенька, снилось Эгейское море и архипелаг. Самое огороженное по красоте место во всей вселенной, доложу я вам!..
– Вы и в Эгейском плавали? – спросил Сергей Сергеич, усаживаясь рядом с врачом.
Афанасьев, в сущности, Эгейского моря не видел. Это, пожалуй, самый позорный случай в его жизни. В Стамбуле, гонясь за дешевизной, он купил дюжину сквернейшего греческого коньяку. Вместе с врачом на Дальний Восток плыл его племянник-агроном, такой же косматый коренник, как и его дядя. Попробовав первую рюмку, дядя сказал, что коньяк этот, как снег в сырую погоду – пристает к полозьям… Определение оказалось пророческим. Двенадцать бутылок связали и слепили их ноги, июни очнулись лишь в Средиземном море. Капитан парохода утверждал, что и дядя и племянник наклонялись довольно низко к Эгейскому морю, но Афанасьев, хоть убей, ничего не мог вспомнить. Пропустить такую исступленную оргию морской красоты, о, боже!.. И вот уже много лет врач Афанасьев видел во сне густое и раскатистое, как октава, Эгейское море…
– Плавал, – сказал, широкобежно хохоча, врач. – Плавал! Конечно, плаванье по современному Эгейскому морю не то, что плаванье в седой древности, когда водились и нимфы и сирены… Нимфы – сухопутный миф, а сирены – морской.
– Причем миф есть только миф, – отозвался с заднего сиденья студент, подпрыгивая на ухабе.