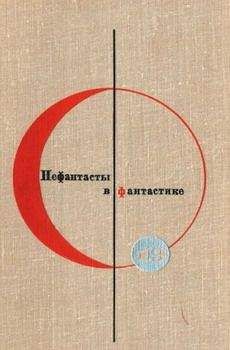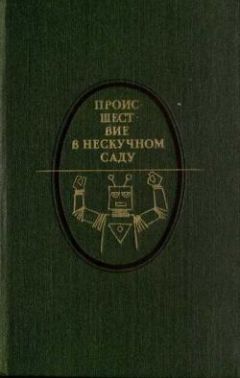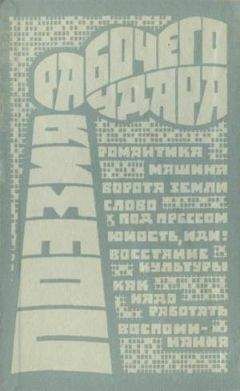Всеволод Иванов - Пасмурный лист (сборник)
– Ну, уж вот это, извини, фантастика!
– В твоих устах – это бранное слово. Но, право, мой дорогой, ты сам очень, очень фантастичен. Хотя бы, например, в том, что простому факту моей любви к тебе умеешь придать фантастические очертания. Получи за это.
И она крепко поцеловала его, так крепко, что, по внутреннему признанию Хорева, он лишился разума, стал мягкий, словно шерсть или иной материал для набивки, и ему ничего не оставалось делать, как ответить ей безмолвным поцелуем.
Студент Валерьянов был холост. Приятность и сладость супружеских бесед он в некоторых случаях, вроде теперешнего, должен был заменять рассуждениями с самим собою. Вступи он в разговор на эту тему со своими друзьями-студентами, он много потерял бы в их мнении. И они, а тем более он сам, считали его характер трезвым, трудноплавким, огнеупорным, несмотря на сложнейшую действительность, ранения, науку, которую надо догонять без спотыкания.
Студент дежурил. Еще не светало, хотя кончался третий час ночи. Сад за раскрытым окном был аспидно-серый, неподвижный. У кровли, в темноте, позванивало полуоторванное колено водосточного желоба, и эти звуки напоминали ему родное село, где рядом с отцовской избой стояла большая и длинная школа с множеством постоянно отрывающихся водосточных труб. Студент сидел за окном чванно и надменно, глядя на книгу для дежурных, кружку с чаем и кусок хлеба. Он думал: съесть ему этот хлеб или оставить на утро?
И еще он думал о доценте Завулине. Невольно он должен был сознаться, что Сергей Сергеич покорил его, и особенно тем, что ждал от него физической помощи. Валерьянов еще не знал, в какой мере он способен проявить эту помощь, но, судя по ненасытному аппетиту и презрению к этому маленькому куску хлеба, судя по жажде к деятельности, он проявит себя в достаточных для доцента размерах. И все-таки никогда не было у него такого командира, с таким странным строением отдельных частей! Очки, подбородок…
Студент встал и гордой, важной походкой подошел к окну. Он облокотился так, словно не подоконник был ему подпорой, а он – подоконнику. Это помогало ему думать, ибо дум много, и изучить их возможно лишь с прилежностью.
Например, Шекспир? В данном случае при чем тут печальное событие военачальника Макбета и его жены, которых увлек в водоворот смерти поток их честолюбия? Меньше всего можно сейчас говорить о личном честолюбии. Люди его не лишены, кто говорит. Но гений самоотверженности ведет нас к победе вовсе не потому, что мы лично честолюбивы. Мы, если уж говорить правду, честолюбивы ради народа, ради тех идей, которые он несет. Сущность макбетовского честолюбия – все-таки домашняя рухлядь, а наше честолюбие совсем из другого материала! И с этой точки зрения инженер Хорев, его жена и другой инженер Румянцев не пришли на общественный просмотр «Макбета», будучи заняты на работе, честь им и хвала!
Сад безмолвен. Позванивала легонько водосточная труба.
Студент вернулся к столу. Он решительно опустился на дюжий стул, выпил полкружки чая и взял хлеб. Трудно двигаться и размышлять при желудке, в который нечто, скромно называемое аппетитом, словно бьет ногой.
Жуя хлеб, он оглядел комнату. В одном углу стояли аппараты для гимнастических упражнений; в другом, возле книжного шкафа, гипсовый слепок с головы Фрунзе. Какая разница между той войной и теперешней!
Тщательно собрав крошки и высыпав их в рот, он опять направился к окну. Светало. Уже виден был сад института с его мелкими украшениями, похожими на залежавшийся галантерейный товар. Над садом висело облако, тяжелое, словно из красного железняка.
Внизу, под окном, стоял с блуждающим взглядом Сергей Сергеич. Доцент, должно быть, не спал всю ночь. Волосы его уныло свисали, будто пшеница, побитая градом.
– Ба! Сергей Сергеич! – окликнул его студент. – Заходите.
– Мы уезжаем, – сказал Завулин. – Собирайтесь.
Студент проговорил:
– Я не кончил дежурства, а затем не получил хлеба на сегодняшний день. Вы бы хоть предупредили.
– Предупреждал. Когда вы мне гарантировали свою физическую силу, это и было предупреждением. Как же вы поедете без хлеба минимум на три дня?! И уж машина ждет.
Он отчаянно взмахнул руками.
– Несомненно, что дочка Румянцева ушла по Московскому шоссе, в Москву. Мы ее догоним и возвратим отцу. А вы, Валерьянов, не хотите ехать! Если б вы или я имели личную заинтересованность в проблеме Румянцев – Хорев. А то ведь чистейший и зеленый, как озимь, гуманизм! Гордитесь. Румянцеву особенно крепко надо помочь. Он сейчас немее и неподвижнее камня, Я – от него. Затем на минутку забежал к Ольге Осиповне. Она готовится к речи в защиту Румянцева. И напрасно! Если мы ему не поможем и не найдем с вами, Валерьянов, его дочурки – никакие речи его не спасут! Совещание посмотрит на его лицо и, чего доброго, промолвит: «Какой замысел способна реализовать эта курятина? Кого хвалит Ольга Осиповна?» А между тем, доложу я вам, Валерьянов, Ольга Осиповна умеет придать удивительную вещественность своим словам. И я не ошибусь, если окажу, что муж ее не ценит. Вообще – он сиплый, и был бы он выдернутой из ткани нитью, если «б не она. Фанфарон! Кургузка!.. Недосягаемая, умнейшая женщина, а он как недожаренная кулебяка…
– Ваши обидные слова, Сергей Сергеич, не вяжутся с вашим общим хорошим отношением к людям, – хмуро потупившись, сказал студент.
– А все потому, что вы меня, Валерьянов, раздражаете! – мотая головой, ответил Завулин. – Так не едете? Жаль. Вы мне показались прожорливым на подвиг. И ехать-то, главное, недалеко. Километров шестьдесят, туда, где начинаются Зеленяцкие Рытвины. Дальше она уйти не может. Там – лесозаготовки, угольные шахты, на каждом шагу – люди, пройти незамеченной – где ей?.. Ну, что ж, не едете? Как же мне ехать к тому месту, где требуется огромная физическая выдержка и стойкость?..
Сергея Сергеича, несомненно, огорчал отказ студента.
Но, с другой стороны, несомненно и то, что Сергея Сергеича огорчило б, окажись студент легко убедимым, сговорчивым. Сергей Сергеич страшился путешествий, даже на самое короткое расстояние» Эти мысли студента немедленно же подтвердили слова Сергея Сергеича. Доцент, увиливая в сторону, вдруг пылко заговорил о топливе, котлах и топках Румянцева:
– Тепло и огонь – самое важное на войне, не правда ли, Валерьянов? Этим побеждаем. Огнем – по врагу, а внутренним теплом – в отношениях друг к другу!.. И пусть Румянцев встретил меня сыро и грубо, – я его понимаю… но он мне бросил пару слов, и я, без замедлений, уразумел, что мы при сжигании топлива используем весьма малый процент тепловой энергии. Есть от чего прийти в ужас! Бросаем в печь, допустим, полено, а половина его бессмысленно, превращаясь в аэрозоли, улетает в воздух!
«А не взять ли мне у приятеля сухари? – продолжал думать студент. – Ему дам свою карточку. Тогда и смогу уехать».
– Молчите? Не верите? Улетает иногда и больше половины полена. Таким образом, половина нашего топлива – дым, аэрозоли, Хорев!.. Да и вообще, я начинаю думать, что тогда лишь, когда горе минует, мы осознаем его истинные размеры. Так, до открытия Румянцева знали мы эфемерность наших топок? Пойдем дальше, и мы придем к заключению, что тяжесть, которую мы с вами, предположим, несем, измеряется не ее весом и размерами, а продолжительностью пути. Например, если б в современной мировой литературе появился новый Бальзак, мы бы поняли, насколько плохи и плоски современные писатели…
– Современных писателей всегда считали плохими и плоскими, в том числе и Бальзака! – крикнул студент и скрылся.
«Пожалуй, он обиделся, – топчась на месте, подумал доцент. – Что это со мной? Какой-то дешевый хмель, как от табака. Обижаю людей, кручусь… этак они меня черт знает за кого сочтут! Вот этот студент, например…»
Сергей Сергеич ошибался, думая, что студент обиделся, но Завулин был прав, когда думал, что студент кое в чем судит о нем превратно. Взять хотя бы путешествия. Студент был уверен, что Сергей Сергеич боится путешествовать, а именно никто другой, как Сергей Сергеич, не любил так страстно путешествия. Он только не хотел вступить в путешествия не вполне приготовленным, главным образом, физически. Природа дала ему слабые ноги, плохое сердце, близорукие глаза. Рядом многолетних упражнений он исправил сердце, укрепил ноги и хотя не победил близорукости, зато приспособил ее так, что она не мешала ему. Готовясь к путешествиям, он не держал библиотеки, и вообще, количество вещей, его обслуживающих, свел к военному минимуму. Что же касается семьи, едва ли не самого большого препятствия для путешественников, – он не миновал семьи. Жена его, сухопарая, с длинными ножками, длинным носиком, похожая на кулика, относилась к нему презрительно, правда, не лишая его детей, – их было трое, здоровенных, голенастых, широколобых, прожорливых. Семья его, как и весь город, называла его «куражным чудаком», и чтоб с корнем вырвать это прозвище, ему надо было совершить законное и в то же время поразительное по своим результатам путешествие. Иначе – пусть будет «куражный чудак»! Противодействующие силы, как видите, были огромны.