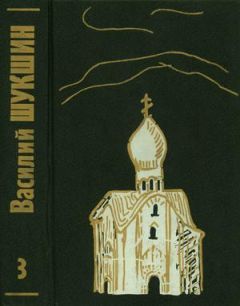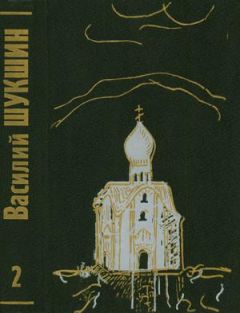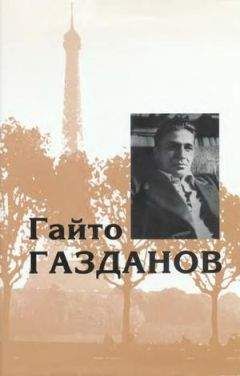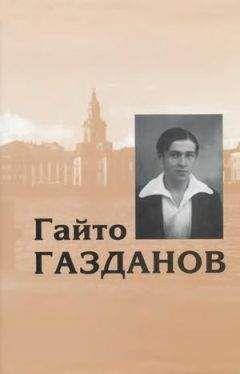Василий Шукшин - Том 2. Рассказы 1960-1971 годов
– Ну, все?
– Все вроде…
– Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!
Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, – в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку – по пояс… Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…
Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы – попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности, и вот надо же – поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже… Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы… Вот этими курсами-то он се и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую – хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.
…Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц… Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный… Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно – верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил… Наверно, чтоб подбодрить нас.
По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.
– Господи, да когда же приедем-то? – не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!
– Скоро, скоро, – бодрится папка. – Еще свернем на одну улицу, потом в переулок – и дома.
Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.
Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.
– Здесь. Счас скажу, что приехали…
– Скорей там, – велит мама.
– Да скоро! Скажу только…
В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале – хоть бы хны.
– Мам, мы тут жить станем?
– Тут, доченька… Заехали!
– Уговори ты его назад, домой, – советую я.
– Да теперь уж… Вот дура-то я, дура!
Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.
Наконец появился папка… С ним какой-то мужик.
– Здравствуйте, – не очень приветливо говорит мужик. – Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?
– Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.
– Ну, заезжайте.
Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка… с самолетом. Я прирос к сундуку.
– Хочешь подержать? – спросил парнишка.
Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди… Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.
– Ты изломаешь.
Таля захныкала и все тянулась к самолету – тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:
– Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?! – мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.
Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:
– Иди спать, Славка, не путайся под ногами.
Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то – с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки – светлая паутинка. Я даже вскрикнул:
– Гляньте-ка!..
– Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори – не дома.
Тут вступилась мама:
– Парнишке теперь и слова нельзя сказать?
– Да говори он, сколько влезет, – потихоньку. Чего заполошничать-то?
Они еще поговорили в таком духе – частенько так разговаривали.
– Завез, да еще недовольный…
– Ну и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.
– Ну и не одергивай каждый раз парнишку!
– Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь…
А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу – лягалась… Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.
Мы легли спать.
Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице – группами – молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:
– Ванька, какое самое длинное слово на свете?
Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:
– Не знаю, деда.
– А-а!.. – и начинает: – Интре… интренацал… – и потом только одолевает: – Ин-тер-на-ци-о-нал!
Мы покатываемся со смеху – мама, я и Таля.
– Эх вы!.. Смешно? – обижается дедушка. – Ну, валяйте, смейтесь.
Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка… Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.
Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:
– Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.
Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет – они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова – бор, – это страшновато. Да и что там, в бору-то? – грузди только.
Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали… Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату – посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь… и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут – сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.
– Ой! – сказала она. – Дай-ка мне.
– Всю, что ли?
– Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?
– Дали. Славка дал.
Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь… Услышали:
– Уже пакости́ть начали? – с порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. – Зачем ты взял сайку?
И – вот истинный бог, не вру – я сказал:
– Я думал, она чужая.
– Чужая… Нехорошо так делать. Это – воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью…
Что-то я вконец растерялся… Вдруг спросил:
– Горошину-то вытащили?
– О какой! – удивилась хозяйка. – Хитрит еще, – и ушла.
Мне стало совсем невмоготу.
– Пойдем домой? – предложил я Тале.
– Счас, давай только доедим, – легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а – сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.
Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.
Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо – вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка… Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:
– Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?
– А зачем? – спросил дяденька.
– Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает, – раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю… И показал:
– Вот так прямо – до перекрестка, потом улица налево пойдет – по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.