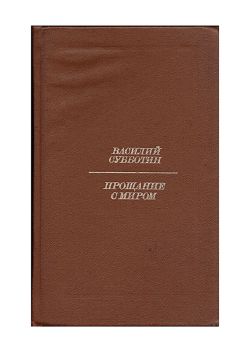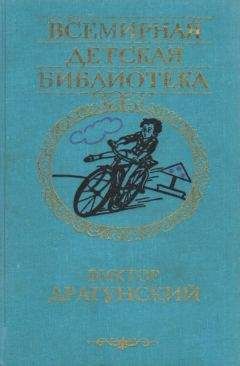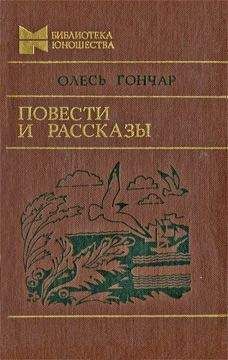Василий Субботин - Прощание с миром
Она была, как видно, совершенно убита, сокрушена и в этом своем удрученном состоянии растерянности, овладевшей ею, рассказала мне то, чего в другое-время никогда не рассказала бы.
Ей и так, как я видел, стоило это многих сил.
В общем, это была история, видимо, довольно обычная, заурядная. Она была медсестрой в санвзводе, он командиром стрелковой роты в том же полку, где она начала служить. Был роман, не роман даже, а что-то вроде свадьбы было. Все как полагается. Только что регистрации не было. С этим решили подождать до возвращения с войны. Они были вместе мало, ее ранило во время боя, там же в батальоне, в роте у него, когда она пыталась вытащить раненого.
Ранена была очень тяжело, осколок пробороздил ей спину, и что-то там было задето, и у нее отказали ноги. Думали, что она не поднимется, ей грозили костыли, и она была в отчаянии, но как-то это обошлось, ноги удалось спасти. Ее долго лечили… Она и сейчас, когда она стояла, не замечая того, как лошадка, слегка поджимала правую ногу. Хотя, пока она не рассказала мне всего этого, я этого не замечал.
Потом, когда она еще находилась в госпитале, он тоже был ранен и, некоторое время спустя, получив отпуск, уехал домой. Она волновалась, мучилась, потом узнала, он ей сам написал обо всем, написал, что обманывал ее, что был женат, что он не вернется. Свет для нее померк, она думала, что не переживет этого, что не станет, не сможет жить. Такого удара, такого предательства, как она говорила, она не ожидала, не могла ожидать… Демобилизовываться она не хотела, не пожелала, но и в полк свой вернуться после всего этого тоже не могла. Тогда-то ее и перевели к нам, в санроту нашу, где я впервые ее и увидел в тот день, когда они приходили к нам…
Она говорила, что она такая невезучая, что на этот раз ни о чем таком не думала, ни к чему не стремилась и она не знает, почему это так получилось, что она на этот раз ни в чем не виновата. Что не понимает меня, не понимает, как можем мы о чем-нибудь говорить еще, что разве не ясно, что я должен вернуться домой к себе и что у меня есть обязанности. А сама опять начинала плакать, говорила, что второй раз она оказалась такой дурой, неизвестно, на что она надеялась. Она давно бы могла спросить у кого-нибудь, но ей и в голову не приходило. Но что так ей и надо! И снова о том, что это уже второй раз. В голосе ее слышалось горе и неподдельное отчаяние. И я уже не был уверен, что поступил правильно, что, рассказан ей все, я ударил ее как бы из-за угла и что я сделал это так неожиданно, так грубо.
Мы в это время, пока происходил весь этот наш печальный, раздирающий сердце разговор, сошли с дороги и стояли возле трех тут, у дороги, растущих елей, под их тяжело нагруженными, длинными, отягченными мокрым снегом ветвями… Не разговор, не объяснение, а самое настоящее, истинное испытание.
Должно быть, ей, как и мне, казалось, что кругом все обо всем знают, что всем все известно и что прежде всего все известно мне.
И она была удивлена, что я ничего не знал, не слышал.
Глава тринадцатая
Город жил своей обычной, скрытой от нас жизнью. Он был маленький, очень старый и очень древний, с марктплацем — торговой площадью — и одной-единственной сколько-нибудь настоящей улицей, по которой мы ходили теперь вдвоем, и по которой прежде я ходил один, и на которой мы знали решительно все. Знали, какая дверь идет за какой. Знали, что за табачным магазином (теперь там торговали одними только пустыми бумажными гильзами) идет аптека с объявлением, что сульфидин весь распродан, за аптекой — магазин писчебумажный и фотопринадлежностей, еще не работающий, за ним — булочная, хлебный магазин. Хлеб был по карточкам, но очередей не было. А по другой стороне после ратуши — этот кинотеатр, потом часовая мастерская, за парикмахерской — фотография, потом водокачка, ос серая башня, потом афишная тумба, железнодорожный переезд, шлагбаум… Все здесь, на этой улице, было нам теперь уже хорошо знакомо.
Мы часами бродили с Дмитрием из конца в конец по этой единственной улице, по всему этому малюсенькому провинциальному городку, в котором, не знаю где, может, mi этой улице как раз, родилась Ева Браун, любовница Гитлера, ставшая в смрадном воздухе бункера под рейхсканцелярией, только за полчаса до того, как им отравить себя ядом, фрау Шикльгрубер, получив при венчании настоящую фамилию Гитлера. Венчание состоялось, когда наши солдаты уже врывались в рейхстаг.
Разумеется, мы тогда ни о чем этом еще не знали…
Ребенок плакал где-то за стеной… Почему-то это очень запомнилось мне. Я даже объяснить сейчас не берусь почему. Наверно, потому, что все вокруг было очень чужое и чуждое, а этот плач ребенка за стеной немецкого дома был таким, каким ему и положено было быть, плачем человеческого существа, маленького, может быть, только что родившегося…
Тут, на скамеечке, под деревом, между двумя домами, возле стоящей в глубине кирхи сидели в эти часы женщины, чаще всего немолодые, с раздувшимися от здешней воды слоновьими ногами, с детскими колясками подле себя. Эти коляски — от комаров, которые тут в это время как раз, вблизи озера, вывелись густо, — были прикрыты прозрачно-желтоватой какой-то, чрезвычайно тонкой тканью. Не что иное, как противомоскитные сетки из пустыни, из Африки. Их, эти противомоскитные сетки, палатки, привозили приезжавшие навестить своих немецкие солдаты и офицеры из экспедиционного корпуса генерала Роммеля в Африке. Теперь под ними мирно спали, посапывая, эти маленькие, только что народившиеся немецкие засранцы…
Что еще помню? Надо сказать, что здесь, как и во всех городах, куда мы приходили до того, подвалы домов были забиты всевозможными продуктами, разного рода домашними консервами, соленьями и копченьями, разного рода наливками в залитых сургучом бутылках, в банках с плотно притертыми крышками. Так было с самого Одера, так было и здесь, в этом городе… Мы и здесь тоже, помню, в первые дни, когда мы пришли сюда, захватили один склад, где, кстати сказать, оказалось огромное количество мешков с крахмалом…
У рациональных немцев, как известно, было великое множество всяческих эрзацев. Не только эрзац-одежда или эрзац-обувь, но и эрзац-еда тоже, эрзац-колбаса например, которая, если не ошибаюсь, называлась соевой… Крахмал тот, если уж мы заговорили об этом, тоже, как видно, шел на изготовление такой колбасы.
Они могли бы еще, эти фанатики, долго держаться, если бы мы их не сломили наконец, у них еще кое-что оставалось, и уж конечно они не голодали. Я не говорю о Берлине, там другое было положение. Я вспоминаю, мы еще не ушли из Берлина, а немцы уже наводили порядок, разбирали развалины, передавали из рук в руки дробленый кирпич, камни… Но это все потом. А в первые дни, когда мы только пришли, наш солдат, повар, по-матерному свирепо ругаясь, кормил толпившихся возле полевых наших кухонь пленных немецких солдат, берлинских стариков, женщин и детей. Возле кухонь, это было не только в Берлине, всегда было много детей…
Там столько всяческой жратвы было — на тех складах, о которых я заговорил! И селедка была, и сыры, и шпик, и колбаса та же. Даже в самом госпитале нашем, в его наиболее дальнем углу, под стеной одного из сараев каменных, были взвалены одна на другую огромные железные бочки с рыбьим жиром, бочки были с кранами, и первое время каждому больному и раненому давали по утрам рыбий жир, по мензурке каждому…
Но это все — к слову.
Удивительно, как быстро все у них тут закрутилось, завертелось, заработало! Война вроде бы только что закончилась, и вообще такой разгром пережили, не пришли еще вроде бы в себя, не опомнились, а и двух месяцев не прошло, на второй же день, можно сказать, после войны, заработали и кинотеатрики всякие, и всякого рода кабаре и варьете открылись. Но так всегда, я думаю, бывает, и не у одних только немцев. Везде и всегда и во все времена так было: одни умирают с голоду, другие оплакивают мертвых, третьи танцуют или смотрят голых девочек. На то она и война! Хуже и гаже ничего не бывает и не придумано.
Я помню, в Берлине, вскоре после того как там закончилось все, я услышал со двора, окно нашей комнаты выходило во двор, истошный крик: «Все разрушено, все погибло!» Кричала какая-то женщина. Им и впрямь казалось так и первое время. Но вскоре они увидели, что все еще не так плохо и могло быть гораздо хуже.
Все погибло, все разрушено, однако же жизнь шла своим чередом. В только что открывшемся тут варьете, в маленьком, выходившем к озеру зальце, юные и, я думаю, еще недостаточно сытые немецкие девы — их было человек двадцать — давали представление, высоко поднимали ноги со сцены и пели какие-то песенки, наверно еще довоенные, не всегда, как мне кажется, приличные. Ничего подобного мы до того времени не видели.
Но прежде всего фильмы показывать стали. Отбирали из старых то, что можно было показывать, где было поменьше людей в форме. Выбирать, правда, было особенно не из чего, поэтому чаще всего показывали одну и ту же картину— «Кельнершу Анну», тоже, как видно, еще довоенную… Перед началом, кстати сказать, показали наш документальный фильм, только что появившийся, о боях в Берлине. Он так, мне помнится, и назывался — «Взятие Берлина», не помню уже точно названия. Помню только, что немцы смотрели его с большим интересом, но и испугом также, со страхом. Их особенно приводили в ужас залпы наших реактивных «катюш», так называемых гвардейских минометов. Здесь, у себя в городе, они это впервые видели.