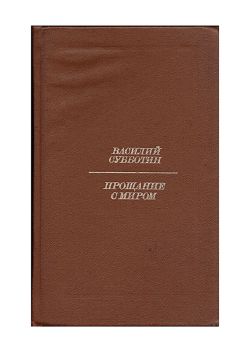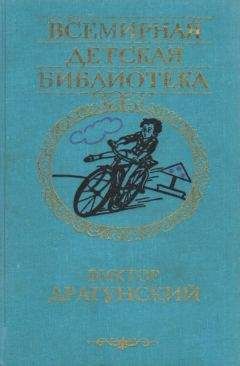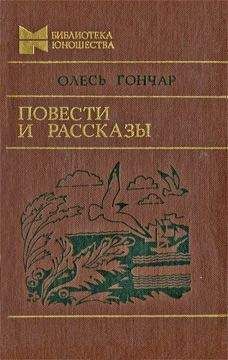Василий Субботин - Прощание с миром
Тоню за все это время, пока меня не ранило, я, можно сказать, почти не видел. Она только однажды была в дивизии у нас, когда совсем неожиданно они ненадолго оказались рядом с нами.
Дом, во дворе которого, придя из-под Штеттина, мы приткнулись на какое-то время со своими пушками, стоял на поляне в лесу. Вернее всего, это была старая, типично, я бы сказал, немецкая, теперь уже заброшенная мыза. Я думаю, что это была именно мыза, потому что каменно-красных коровников было тут больше, чем чего-нибудь другого… Мы поместились тут вместе с нашими полковыми разведчиками, которые на той же мызе, в одном из этих коровников на сеновале спали…
Дом стоял возле дороги, недалеко от перекрестка, а где-то там, на другом конце этой дороги, был город. Это— по одну сторону. А по другую — был Одер, бурный Одер, река судьбы, как говорили немцы, последний водный рубеж перед Берлином. Но мы пока еще его не видели. Нам только говорили, что Одер здесь недалеко, что он очень близко, в том же лесу, что лес этот выводит к Одеру, прямо на берег Одера выходит… И вроде бы сам Одер течет среди леса, находится прямо в лесу. Кое- кто из нас, правда немногие, успел уже побывать там. Тут в лесу, недалеко от дороги и от этого дома, было небольшое озеро, и там каждый день шли показательные учения, наши солдаты с помощью подручных средств учились на нем преодолевать водную преграду.
Этот-то вот лесной у дороги стоящий дом и был нашей последней стоянкой на Одере…
Недолгой она была, эта наша передышка.
Тоня приехала очень рано, когда мы едва только встали. Приехала в самый дождь, на одну только минутку, по делам, как она сказала, и собиралась тотчас уезжать. Я стянул с нее мокрую шинель, и мы, наперебой ухаживая за нею, усадили ее за стол. Она приехала как раз к чаю. Она твердила, что она очень спешит, но все-таки, смущаясь, как всегда это было с ней, села. Она была, как всегда, румяная, и оттого она, зная это за собой, стеснялась еще больше и хваталась ладошками за щеки. И конечно, ее солдатский румянец еще больше разгорался.
Сердце мое уже было задето, хотя я этого еще не понимал, не осознавал еще этого по-настоящему. Хотели мы этого или не хотели, но мы уже любили друг друга и не могли уже друг без друга жить. Я только теперь это понимаю, но тогда я был немножко растерян от неожиданности ее появления, ее приезда. Я испытывал очень сложные чувства. Она впервые гак прямо, без какого-либо видимого повода или отговорки была у нас, и я не знал, как мне держаться, как вести себя.
Я сидел с краю, уступив ей свое место за столом. Я видел ее смущение, и мне хотелось, чтобы ей было хорошо у нас. И я видел, что все об этом заботились. Командиром одного из взводов у меня в то время был Нестеренко мужик тихий и безобидный, тот, которому жена сюда, на фронт, прислала разводное свидетельство, и он поэтому называл себя кавалером разводного свидетельства № 124. Под таким номером был выдан этот документ. Вот он-то и старался больше всех. Он даже шутил как умел и тем, кажется, еще больше смущал ее. Он подкладывал ей сахару в стакан, а потом заглядывал в банку и говорил: «Сахару-то у нас мало осталось. Сахарок-то у нас вышел весь, кончается у нас сахарок-то…» И так далее, все в том же роде.
Тоня хотя и понимала, что все это шутки, но смущалась, и смеялась и смущалась одновременно.
Это наше сидение за общим столом под взглядами товарищей было, наверно, нелегко для нас обоих, поэтому я был особенно благодарен моему товарищу и за то, что он взял на себя роль хозяина, и за эти его пусть немножко неуклюжие шутки.
Тоня торопилась, и я пошел ее проводить. Мы вышли из дома, спустились с крыльца и скоро вошли в тихий, еще мокрый лес. Лес был совсем рядом, он стоял стеной и начинался прямо тут же, от этого дома, от его крыльца. Мы спустились с крылечка и оказались в лесу на дороге. Дорога была хорошо профилированная, прекрасно асфальтированная. Известно, какие дороги у немцев. У них ведь даже самая плохонькая дорожка, даже если она в лес за дровами, все равно заасфальтирована. Лес был тоже такой же чистенький, без единого сучочка, словно бы подметенный, больше похожий на парк, чем на лес.
Сосны стояли за дорогой, длинные, совсем как натянутые струны. Они и впрямь были как хорошо натянутые струны. Кажется, проведи рукой, и они заколеблются, заиграют, загудят мерно и торжественно. День был теплый, даже солнечный. Сквозь вершины сосен прорывался не проникающий до земли свет солнца. Ночью шел дождь, и лес был мокрый, черный, сосны слева, со стороны дороги, были угольно-черные, вымокшие от прошедшего за ночь дождя. Обычный весенний, намокший за зиму лес. Дорога тоже была еще не высохшая после дождя, мокрая. Грязь самую большую с дороги раскидало машинами, и асфальт был чистый, грязи на нем было немного, вернее сказать, ровно столько, чтобы местами на нем четко отпечатался след колес. Я давно не индол такого леса, он был весь пропитан серой.
Там, в конце дороги, по которой мы шли, лежал городок — полупустой, словно вымерший, должно быть, и в самом деле начисто брошенный, как очень многие города на пути к Одеру, город, в котором размещались кое-какие наши тылы, хозяйственные службы, которые не надо было особенно прятать. Здесь теперь, пока они не ушли отсюда, и было расположено хозяйство Тони — две-три машины, несколько домов на окраине с медперсоналом, врачами и сестрами, одно из отделений пока еще не развернувшегося госпиталя.
Мне уже приходилось бывать там, в этом городе.
Тоня была в шинели, в своем теплом толстом шерстяном платье, а я ничего не надел, тепло было, — в одной только тоненькой своей суконной гимнастерке, в фуражке… О как легко было идти в тоненькой суконной гимнастерке, в легких, почти еще новых сапогах через этот влажный, мокрый, пахнущий весной, только еще начинающий понемногу просыхать, густой сосновый лес. Мы шли, и было нам хорошо, мы шли, молчали, а может быть, и разговаривали, не помню этого, а сосны и слева и справа странно двигались вместе с нами, забегали одна другой вперед, кружась как бы в хороводе. Невозможно было сделать шаг, чтобы они не начинали кружиться.
Мы шли уже с полчаса, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Нельзя же было вот так идти и идти пешком через весь этот лес. Мы все время посматривали назад, оглядывались, ждали, не загудит ли издалека позади нас какая-нибудь машина. Но прошла только одна, тяжело груженная, с грузом, накрытым высоко мокрым, темным, еще не высохшим брезентом. Но эта нас не посадила.
Я знал, что Тоня торопится, что она спешит, и сердился на мое. Я видел, что и она рассержена, и не понимал ее настроения. Получалось, как будто я был виноват и чем-то, и прежде всего в том, что мы так давно идем, а машин все нет и нет. Я видел, что досада ее все больше росла. На что? Да нет, конечно, не на то, что не было машины. Тут дело было совсем в другом. Она была недовольна тем, что она пришла, что она так ног сдуру, глупо закатилась к нам. Как девчонка! И теперь то, что для всех было тайной, так во всяком случае какое- то время казалось нам, что было скрыто до поры до времени, стало для всех явным, было у всех на виду. Она заметила, конечно, что ее появление и вся эта неестественность, возникшая за столом, действовали на меня. И теперь я был раздражен, настроение у меня было испорчено. Тоня все это заметила еще за столом… «Ах, ты хочешь, чтобы все было тайным… На людях ты становишься совсем другим, замыкаешься, становишься необщительным, угрюмым. Ты ведешь себя так, как будто бы даже стесняешься меня! Ну хорошо же!» Так или почти так она говорила мне.
Да, все это было не только на ее лице, но она это все теперь мне и говорила. Одним словом, мы поссорились, поссорились неожиданно, как никогда не ссорились, очень страшно.
Я не думаю, чтобы вам было интересно слушать двух между собой поссорившихся людей — на этой дороге, в лесу, среди дороги… Ничего не может быть хуже, проще говоря — противнее. Мы шли теперь по разным сторонам дороги, как бы все больше отдаляясь друг от друга, досадуя один на другого, жалея и недоумевая, что все так нелепо сложилось, все так произошло. Но я, как обещал, освобожу вас от описания подробностей.
Обида, будто внезапно отпущенная ветка, больно хлестнула меня по лицу. Я кинулся в лес, не разбирая дороги, и не помню, куда и сколько я шел. Все во мне кипело. Как она могла так!
Когда я опомнился, я повернул, нет, я выбежал обратно на дорогу. Однако я не сразу мог правильно определить, куда мне надо идти. Я отбежал очень недалеко. Я преодолел канаву, почти ров, отделяющий лес от дороги, даже не заметил, как его перемахнул, и, выбежав на дорогу, огляделся и не поверил себе. Дорога была пуста. Дорога просматривалась на несколько километров, и все же она была пуста, на ней никого не было. Ее не было.
Я в первую минуту ничего не понимал, не соображал, не понимал, как это случилось. Никого.
Как будто мы только что, всего лишь какое-то мгновение назад, не были здесь, на этой дороге. Куда я бежал? Ведь не было же никого ни впереди, ни сзади.