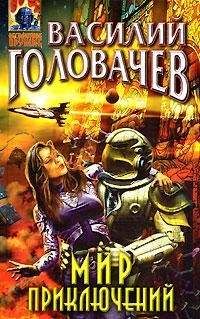Юрий Федоров - За волной - край света
— Ну–ну, — ответил, — какое же дело? — И слабая, недоверчивая улыбка тронула его губы.
Но Тимофей будто не заметил ее, а скорее, не захотел замечать.
— Баранов, Александр Андреевич, — продолжил он с тем же напором, — отписал тебе о сухом пути на западное побережье материка Америки, что от старого индейца выведали, так вот — давай ватагу собьем, и я ее поведу. Пройдем, ей–ей, пройдем… А земли сеи зверем богаты, как ни одни иные. Слышишь, хозяин?
Шелихов смотрел на Тимофея в упор. В глазах, вроде бы засыпанных серым пеплом, уголек горячий проглянул.
Тимофей пружинисто, рывком поднялся от стола, заходил по комнате.
— Ежели сей же час вернуться в Охотск, я успею на последний галиот и с весной в поход. Ну, хозяин, думай!
Шелихов пошевелил бровями, через силу улыбнулся.
— Хозяин! — наседал Тимофей, — думай же, думай! Мы пройдем!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Европейский мир содрогался от ударов, гремевших в Париже. Там происходило невероятное.
Французский король Людовик XVI был брошен своим народом в грубую телегу, под свист и улюлюканье провезен по узким улочкам на Гревскую площадь и гильотинирован. Окровавленную голову короля палач выхватил за волосы из–под ножа и, потрясая, показал ревущей в восторге толпе.
Девять месяцев спустя на Гревскую площадь та же телега привезла дочь австрийского императора и императрицы Марии — Терезии, одетую в черное фразцузскую королеву Марию — Антуаннету. За телегой, не прекращая вязать из серой, некрашеной овечьей шерсти носки и шарфы для армии, мрачно шагали женщины Парижа. Деревянные их башмаки били в мостовую, словно повторяя раз за разом: смерть, смерть, смерть… Это были те самые женщины, которые пришли к Версальскому королевскому дворцу и потребовали хлеба. «Хлеба? — удивилась королева. — У них нет хлеба? Так пускай они едят пирожные!» Эти пирожные женщины Парижа не забыли.
После казни короля и королевы наследника французского престола — семилетнего Луи — Шарля отдали на воспитание сапожнику. На плечи узкогрудому, с кукольным лицом и слабыми руками принцу накинули продранную на локтях солдатскую куртку.
Монаршие дома Европы были потрясены.
Сообщение о судьбе французского принца самодержица российская выслушала молча, поднялась с кресла и подошла к окну. Дамы двора заметили, что букли парика вздрогнули на висках.
По льдисто отсвечивающим сугробам придворцовой площади гуляла пороша. Глаза Екатерины остановились на вихрившихся, беззвучно взметавшихся к низкому небу молочно–белых пеленах. Императрице показалось, что она видит за беспорядочно пляшущими игольчато–колючими кристаллами снега черные колеса телеги, везущей короля на казнь. Колеса проламывали льдистую корку сугробов, проворачивались, странно и страшно закрывая перекрестиями спиц бесконечную, безлюдную перспективу площади.
Мистика, однако, менее всего была свойственна Екатерине. Она тряхнула головой, еще ближе подступила к окну и положила руки на обжигающий холодом мрамор подоконника. Рассудочный мозг императрицы восстановил вполне реальную картину, виденную ею на этой площади. Воспоминание ударило Екатерину остро и безжалостно.
Больше двадцати лет назад по ступенькам, на которые сейчас падал снег, поднимался ее гость из Парижа. Плебей, сын ремесленника–ножовщика. Однако к тому времени, когда его принимала самодержица российская, было забыто жалкое происхождение Дени Дидро и все воспевали литератора и философа Дени Дидро, «директора мануфактуры энциклопедии». Ныне императрица знала, что от «посла энциклопедической республики» до Гревской площади, обагренной королевской кровью, была прямая дорога, и с уверенностью можно было утверждать, что путь, по которому катила телега короля к гильотине, был вымощен не только древней парижской брусчаткой, но и выстлан листами той самой энциклопедии, которую составлял и редактировал гость самодержицы российской Дени Дидро.
Екатерина, никогда не выдававшая волнения, до боли закусила губу. И быть может, именно в эту минуту, превозмогая боль и досаду, она приняла одно из самых трудных своих решений.
Но верная избранной манере поведения, императрица с каменным лицом повернулась к придворным и, будто не было предыдущего разговора, указала на стоящую у подъезда карету. Холодно спросила:
— Чей это выезд?
Кто–то из придворных поторопился ответить:
— Князя Шаховского, ваше величество.
— Пригласите его.
Через минуту князь Шаховской предстал перед самодержицей российской. Она была величественна, как всегда, и букли ее парика больше не дрожали.
— К вашему сиятельству есть челобитчица, — сказала Екатерина.
Шаховской растерянно вскинул брови:
— Кто бы это, ваше величество?
— Я, — ответила Екатерина с тем же застывшим лицом, — ваш кучер сейчас так ласкал и холил лошадей, что мне представляется — он добрый человек. Прошу, прибавьте ему в жалованье.
— Государыня, — поспешил Шаховской, — сегодня же исполню ваше приказание.
— И как вы его наградите?
— Прибавлю пятьдесят рублей в год, — ответил Шаховской и поклонился.
— Очень довольна, — сказала Екатерина, — благодарю. — И, повернувшись, быстрой походкой вышла из залы.
В тот же день в затерянный в украинских степях, заснеженный городишко Тульчин ушла эстафета. В Тульчине стоял штаб Южной армии.
На протяжении многих десятков лет, то затихая, то вспыхивая с новой силой, шла битва Англии и Франции за первенство в европейском мире. В надежде сокрушить соперника, путем явных и тайных договоров, стороны привлекали к борьбе Пруссию и Испанию, Австрию и Скандинавские страны. Но непрочные союзы не давали решительного перевеса. Кровь лилась по обоим берегам Ламанша, и колокола с печальным постоянством извещали о павших во славу короля и королевы безвестных Жаков и Джеймсов. Между тем на востоке зрела третья сила — Россия. Она вышла к морям, население ее перевалило через сорокапятимиллионный рубеж, она многократно увеличила земельные владения, и европейский мир с немалой долей удивления увидел у восточных пределов колосса. В европейских столицах начали осознавать, что сближение с Россией может оказаться решающим в затянувшемся споре о первенстве. Однако закрытый балтийскими туманами Питербурх не спешил сказать слово. Но вот на хрипящих конях эстафета пошла в Тульчин. Екатерина внимательно следила за борющимися европейскими соперницами и, скорее, предпочла бы дальнейшее их противостояние, взаимно изматывающее друг друга, однако в криках борьбы она услышала из Парижа: «Мир хижинам, война дворцам!» — и решение ее созрело. Она приказала готовить многотысячную Южную армию к далекому походу во Францию. Российская самодержица не могла простить хижинам их дерзость. Рваная солдатская куртка на плечах принца крови, возможно, была последней каплей.
Пакет с приказом армии был засургучен тяжелыми печатями, слова приказа сугубо секретны, однако внешность российской столицы тут же изменилась. Многочисленные чиновники значительно прибавили в шаге, столоначальники посуровели лицами, а чины более заметные в табели о рангах вдруг так окрепли голосами, будто ожидали комисии, от которых, как известно в России, можно за одни и те же действия получить орден, высылку в места не столь отдаленные или чего еще более неожиданное. Столичная жизнь пришла в движение. Все смешалось. В разные стороны поскакали курьеры. Чиновники в должностях, отрываясь от столов, на цыпочках подбегали к окнам. «Та–та–та‑та!» — гремела под копытами мостовая, и возбужденный, расширенный зрачок чиновничьего глаза трепетно прыгал, сокращаясь и увеличиваясь в такт хода курьерских коней. «Т–с–е!» — прижимал чиновник палец к губам и возвращался к бумагам, число которых многократно выросло.
В эти тревожные дни президент Коммерц–коллегии граф Воронцов вызвал Федора Федоровича Рябова. Лицо Александра Романовича было огорченным. Он выслушал помощника, решил дело и вялым движением руки отпустил его. Однако Федор Федорович, долее чем это было нужно, задержался у стола президента. Воронцов с удивлением взглянул на него. Рябов несмело заговорил о делах восточных, но Александр Романович остановил помощника. Он не замахал руками, как это сделал секретарь императрицы Безбородко в ответ на такой вопрос, напротив — Воронцов тихо прикрыл глаза и долго молчал. Федор Федорович, так же как и граф в свое время, понял: дела восточные ныне, да и, наверное, надолго вперед, следует забыть.
Выйдя из кабинета президента в приемную залу, до необыкновения заполненную просителями и должностными лицами многих ведомств и служб, захлестнувших волной коллегию, Федор Федорович неожиданно вспомнил разговор с Воронцовым, состоявшийся здесь же, в его кабинете, пять лет назад. В то памятное утро Александр Романович был полон сил и энергии, лицо графа светилось надеждой, и он призвал помощника обратиться всеми помыслами к делам восточным. Федор Федорович припомнил и то, что при этом разговоре он испытал огорчение и озадаченность в предчувствии неудач. Живо восстановленные в памяти ощущения того дня, которые могли бы польстить его дальновидности, умению заглянуть в будущее, не только не обрадовали или как–либо по–иному ободрили Рябова, но, напротив, вызвали до боли поразившее его едкое чувство неустойчивости, бессилия и — более того — своей бесполезности в чудовищно огромном жернове, называемом империей, медленно, но неуклонно сминавшем — дробя и сокрушая — надежды, стремления, чаяния и сами жизни людские в только ему ведомой закономерности.