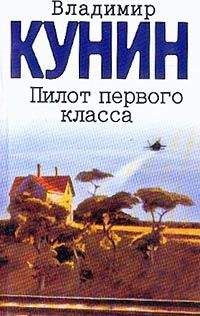Римма Коваленко - Конвейер
— Ну что ж! Не будем ничего делать? — перебила его Татьяна Сергеевна. — Будем ждать, когда поставщики сами в сознание придут?
Сергей Макарович Андриенко был последним, кто еще держался, кого она еще не вывела из себя. Но и он стал терять терпение.
— Почему ждать? Обсудим, решим. Возможно, делегацию к поставщику откомандируем.
— Никитина включите. — Татьяна Сергеевна поднялась, а перед тем, как подняться, послала разъяренный взгляд Никитину. — Валерий Петрович их жалостью проймет. Новый конвейер у него почему так быстро поднялся? Нашел жалобную струну у руководства и дергает за нее.
— Новый конвейер у меня поднялся! — Шея Багдасаряна стала багровой, он вскочил, подбежал к Соловьевой, замахал перед ней руками. — Я руководитель работ, я начальник реконструкции! Если вы, мастер Соловьева, понятия не имеете, что происходит в цехе, в двух шагах от вашего конвейера, то скрывайте это хотя бы от других. Не позорьтесь!
Все, получила сдачу полной пригоршней. Знала, что разобидит всех, но что будет так тяжело и одиноко, не знала.
— Мой позор со мной, Виген Возгенович. Пока вы новым конвейером любуетесь, мои ребята сегодня продукцию дают. И на вас со своего места поглядывают: как это вы в своем голубом костюме не боитесь возле стен продвигаться? В три этажа блоки у стены. Не дай бог, рухнут, мы с вами по гроб жизни не расплатимся.
— Не ношу я уже два месяца голубой костюм! — закричал Багдасарян. — Где вы видите голубой костюм?! При чем тут костюм? Дайте мне воды, пока она довела меня до инфаркта!
Испытывая неловкость перед Багдасаряном, члены дружно засмеялись — так отчаянно запросил он воды. Смех не принес облегчения, не разрядил напряженности. С трудом разгибаясь, Андриенко поднялся из-за стола, объявил заседание закрытым.
Домой все-таки шли вместе. Наталья шла и сопела, Татьяна Сергеевна попыталась отстать, чтобы не слышать этого зловещего сопения, но Наталья тоже сбавила шаг, разлучаться не желала. Наконец заговорила:
— Сейчас хоть понимаешь, что несла?
Надо бы смолчать: подвела Наталью. Не только себя в худшем свете выставила, но и подругу, профсоюзного руководителя, не пощадила. Но как с собой сладишь?
— Дружба дружбой, — ответила, — а табачок врозь. Табачок-то отсырел, Наталья.
— Брось ты свои присказки. Посмотрела бы на себя со стороны. Стыдно мне тебя было слушать: мастер, руководитель производства, а разговор вела на уровне Верстовской. Глас рабочего класса перед дармоедами.
— Очень уж ты стыдливая. А между прочим, твое наипервое дело — Верстовская. Ее мусор в голове. Откуда он? Вот бы и занялась делом. А электролиты тебе не по плечу. Приказы на сверхурочную работу ты не подписываешь, знать ничего не знаешь о нарушениях, со всех сторон правая. А у меня нет выхода. Повозмущаетесь: с ума спятила Соловьиха, не разбирает, где свои, где чужие, отсталые представления, вчерашний день, а двинется все-таки дело — не пропадет моя боль. Не будут блоки незавершенными стоять у стены. Вспомнишь мое слово: не будут.
Они расстались не попрощавшись. Татьяне Сергеевне было тяжелей: дело-то общее и беда на всех одна, а получилось, что воюет она против тех, кто этой же бедой бит. Собрались, поговорили. В протоколе от того разговора след остался. Культурный след. Не вписали в него слова Багдасаряна: «Дайте мне воды, пока она не довела меня до инфаркта». И смех остался незапротоколированным. Смеялись, чтоб не плакать. С чего они так обиделись? Должность у нее маленькая? Слова выбрала человеческие, а не казенные?
Нельзя среди своих говорить, что думаешь, надо слово специально подыскивать, чтобы никого оно не царапнуло? А ведь Колпачок тоже правду сказал про электролиты, вежливо сказал, а ведь как царапнул, как обидел…
Если сам с собой согласиться не можешь, сомневаешься, как же другие поверят твоим словам? А может быть, сомнения всегда с человеком и только тогда оставляют, когда его правоту разделяют другие? И тогда это и есть настоящая правда?
В квартире надрывался приемник, заграничная музыка шипела и взвизгивала, низким, утробным голосом выкрикивала что-то певица, и было в этой песне и музыке одно явственное настроение: эх, катись оно, все человеческое — заботы, печали, думы, — к чертям собачьим, найди в своем организме вот такой же утробный звук, подтяни и увидишь, как хорошо, как бездумно можно ощущать себя. Татьяна Сергеевна не верила ни мальчикам, шагающим с поющими транзисторами, ни толпе на танцплощадке, прыгающей в лад этой музыке, что она всерьез захватывает их, созвучна их желаниям. Неинтересные, некрасивые были у них при этом лица. Значит, подлаживались под что-то, совершали насилие над своим естеством, а возможно, и пробуждали в себе что-то не самое лучшее.
Музыка надрывалась, а Лаврик не слышал ее, спал на тахте, выставив вперед коленки в синих джинсах. Она выключила музыку, и он сразу открыл глаза, спустил ноги с тахты и сонно уставился на нее.
— Спи, — сказала Татьяна Сергеевна, — я специально выключила приемник, чтобы не мешал тебе.
Лаврик сунул ноги в тапочки, направился на кухню.
— Будешь есть? Я тут кое-что приготовил.
Она вошла в кухню, увидела лицо мужа и поняла, что Лаврик не простил ее, не отошел, лицо было по-прежнему скорбное, отсутствующее.
— Я в лесу был, — сказал он, — лисички пошли. Натушил сковородку. У меня выходной сегодня.
Вот такая у них пошла жизнь: у него выходной, а она и не знала. Думала, что на работу пошел, а он — в лес.
— А у нас партбюро было, — сказала она, — я письмо директору написала, насчет работы в выходные дни и вообще. Это письмо на бюро обсуждали, не знаю, как они живы после моих слов остались.
— Я представляю, — печально подтвердил Лаврик. — Уж если ты разгонишься, то вовремя остановиться не сможешь.
Он не был на партбюро, но охотно пристроился в ряд тех, кого она там обидела. Он тоже против нее.
— Но я права, — сказала она. — Почему правый должен мучиться и страдать оттого, что он искренне, от сердца сказал, что наболело? Допустим, я выступила грубо, но я ведь говорила правду. На что же они так обиделись?
Лаврик молчал; лисички, приправленные сметаной, стыли на тарелке.
— Ты ешь, после расскажешь. Я их под крышкой жарил, томил. Представляешь, в папоротниках растут. А мы с тобой всегда папоротники обходили, считали, что там грибов быть не может.
Она стала есть, чувствуя, какой колючий клубок слез подступает к горлу. Она каждый гриб в лесу встречала криком, требовала, чтобы Лаврик шел к ней, посмотрел, какое чудо она нашла. Каждое лето — это грибы. Молодыми палатку с собой брали, ночевали в ней. Гриб на крепкой ножке был чудом. А разве не меньшим чудом была их жизнь? Дочка росла, спала между ними в палатке, потом подросла, стала ездить в пионерский лагерь. Они приедут к ней в родительский день, сидят на концерте пионерской самодеятельности, поглядывают друг на друга и вздыхают: такой денек пропадет, такой лес кругом, а в нем — грибы.
— А может, они не обиделись? — сказала Татьяна Сергеевна. — Может, рассердились, в амбицию впали? Был виноват поставщик, а теперь виноваты они. Вот и злость на меня за это. Но при чем тут я?
— Обиделись или разгневались — это дела не меняет. Вопрос, который ты подняла, касается одинаково вас всех, а ты поделила его на себя и на них.
— Раз вопрос общий, то пусть все сообща и молчат? Так?
— Не так. Как происходят аварии? Один водитель прав, другой виноват, а разбиты оба. Вот так и в жизни.
— Почему? — Татьяна Сергеевна требовала ответа. — Почему разбиваются оба?
— Закон такой, — ответил Лаврик. — Чтобы избежать аварии, надо, чтобы правый водитель уступил в критическую минуту.
— Уступить нарушителю?
— Да. Нет другого выхода. Не сделает этого, и оба будут под обломками!
— Да лучше под обломками! Ты только подумай, о чем ты говоришь: значит, все дисциплинированные водители уступают этому нарушителю дорогу, жмутся, остерегаются, а он, нахал и хулиган, едет себе и в ус не дует. Они жмутся, а он едет?
— Едет до поры до времени.
— Значит, кто-то все-таки останавливает его, призывает к порядку?
— Останавливает. А не на полном ходу врезается.
— Значит, я не остановила, а врезалась? — спросила Татьяна Сергеевна.
— Похоже, так.
— И теперь мы все в лепешку?
— Не насмерть, но покалеченные. — Лаврик, казалось, и себя причислял к тем, в кого она врезалась.
— Отчего же ты никогда со мной не говорил об этом?
Он ответил сразу, будто заранее у него был приготовлен ответ:
— А у нас ведь, Татьяна, в последние годы вообще разговоров не было. Ты дома жила и не жила. Вся на своем конвейере. Там у тебя электролиты, Колпачки. Мариночки, Зоечки, конфликты с начальством. И дома все это с тобой. А я просто так, рядом…