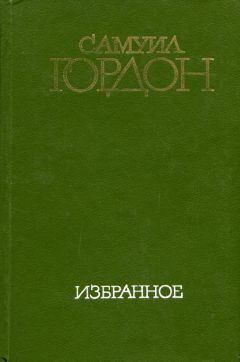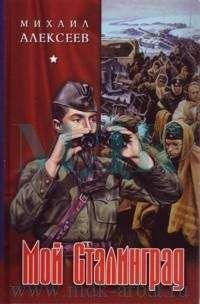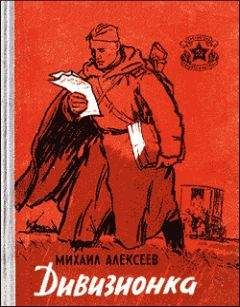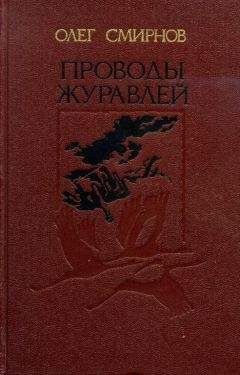Михаил Алексеев - Наследники
— Мина фрицевская, а то б износу не было человеку. Богатырь!
— Что же с ним случилось? Как оно все?
— Долгая, хлопцы, история… — вздохнул Добудько, однако, не дожидаясь, когда гости попросят его об этом, сам стал рассказывать: — Дальневосточник он, откуда-то из здешних краев. Иваном Гурьянычем прозывался, а по фамилии Горюнов. Воевал еще в первую германскую, а потом з японцами дрался в двадцатых годах под Волочаевкой. А у нас служил старшиной хозяйственного взвода в батальоне. Со всеми делами, бывало, управится, ничего не забудэ. Все бойцы у него вовремя поедят, чайку горячего попьют и свои сто граммов получат. Цены не было человеку, хоть и водился за Гурьянычем один грешок… — Добудько замолчал и снова присел к столу, приглашая с собой Петеньку с Сычом.
— Какой же… грешок-то? — нетерпеливо спросил Петенька, не спускавший с Добудьки своих внимательных, зорких глаз.
— Да какой у старого партизана могет быть грех? Известное дило — зашибал больше, чем бы надо было. Прикасался вот к этому. — Добудько выразительным жестом указал на бутылку. — Бывало, начну его упрекать да стыдить. «Що ты, — говорю, — Иван Гурьяныч, тягнешь ее, окаянную, каждый божий день, неужели не надоесть вона тебе? Да ты трезвый-то бываешь когда? Я, — говорю, — щось не помню». А он: «Не знаю, Тарас. Сам уж не помню… Но, кажись, от первой германской до второй германской раза два тверезый бывал!» Она, проклятущая, — старшина опять кивнул на бутылку, — и довела его до могилы. Стояли мы как-то в обороне — пид Кировоградом дело было. Окопались як следует, зарылись поглубже в землю, сидим… Тут уж за вашим братом солдатом глаз да глаз нужен!.. От безделья обязательно щось придумают. Вот и на этот раз. Дывлятся командиры — бойцы попивать понемножку начали. То от одного, то от другого горилкой потянет… Дело паршивое: нужно было принимать меры, не то скандал! Отобрали, реквизировали, значит, все самогонные аппараты во всех ближайших деревнях и селах… На время прекратилось это безобразие. Да ненадолго! Опять начали примечать, от которых попахивало этой самой… стали следствие наводить: видкеля самогон? Шукалы-шукалы, да так ничего и не нашли… Хитро было придумано! — Губы Добудьки поморщились в улыбке, он, видать, с трудом сдерживал рвущийся наружу смех.
— А что же придумано-то? — поощрял его, беспокойно ерзая на стуле, Петенька.
— Все открылось, як в наступление пошли… Стали полковые связисты тянуть нитку, провод то есть, на новый НП, дывятся: там, где раньше было наше боевое охранение, самогонный аппарат установлен! Вот, оказывается, откуда добывал свой первачок Гурьяныч! Выяснилось потом, що ему-то и принадлежала идея укрыть аппарат в боевом охранении. Туда, мол, начальство редко заглядывает! Воно, конечно, кому же охота идти пид самый нос к фрицу — боевое-то охранение в двадцати метрах от немецких окопов находилось.
— Ну и что же с Гурьянычем?
— Известно що. Разжаловали в рядовые да на передовую в стрелковую роту… Но он и там не пал духом. Прошла неделя, бачу, а у него уже орден Славы. А еще через месяц — другой… Приноровился он по ночам «языков» притаскивать. Мабуть, целую дюжину понатаскав! Геройский был мужик!
— Ну а как же с водкой? Бросил он ее пить?
— Какое там бросил! Все так же… Из-за нее, говорю, и лег в землю раньше времени. Обстреливала наши окопы немецкая минометная батарея. Днем це было. Постреляет-постреляет и замовчит, притаится. Наши, понятно, решили ее засечь, определить, видкеля она стреляет… А Иван Гурьяныч, как всегда, под хмельком… «Я, — говорит, — зараз ее обнаружу». Рядом с окопами стояло обшарпанное осколками да пулями дерево. Он на него и забрался. А немцы увидали и давай по нему из минометов жарить. А Гурьяныч сидит да дразнит их: «Давай, давай, фриц, все равно у тебя ничего не выйдет!» А оно вышло… — Добудько глубоко и тяжело вздохнул. — Прямо в висок осколок. Повис наш Иван Гурьяныч на черных опаленных сучьях, только ночью, як стемнело, сняли его оттуда. Всего изрешетило, беднягу…
— А обнаружили хоть… батарею-то немецкую? — тихо, прерывающимся голосом спросил вдруг молчавший все время Сыч, и все увидели на его глазах слезы. Петенька, потрясенный этим, тоже часто-часто заморгал белесыми ресницами.
Старшина между тем заканчивал свою короткую и горькую повесть:
— Как не обнаружить! Обнаружили. Да только человека-то не стало. Третий орден уже посмертно.
Добудько и его гости, точно по команде, встали и подошли к фотографии.
Много прошло минут, прежде чем они смогли успокоиться и опять говорить о себе, о своих делах, о Селиване, о полковых и ротных новостях.
Петенька уже давно пристально присматривался к Добудьке. И вот только теперь вдруг спросил:
— Гляжу я на вас, товарищ старшина, и думаю… — Он покраснел. — Гляжу и думаю: давно бы вам, по справедливости, быть офицером, а вы все старшина. Отчего это? Простите, если вопрос не совсем… скромный.
— Почему? Вопрос как вопрос. — Добудько задумался. — У вас мать кто? Врач, кажется, по профессии?
— Врач, — подтвердил Петенька.
— Сколько лет она работает врачом?
— О, уже лет двадцать.
— Вот бачишь, — ухмыльнулся Добудько. — А я старшиной пятнадцать лет. Есть, товарищ Рябов, вечные профессии… Ну как бы сказать?.. Без лесенок, что ли. Врач, учитель, садовод, скажем. Опять же хлебороб, ну и другие — мало ли! Вот и у меня такая профессия. Старшина-сверхсрочник! Стало быть, для меня не определено срока — моя должность завсегда требуется. Это уж точно! Поняли, хлопцы?
— Поняли, — сказал Петенька, а сам все смотрел и смотрел на Добудьку, будто видел его впервые.
— Вы что же, товарищ старшина, думаете всегда жить в этом краю или как? — полюбопытствовал Сыч.
— Пока не помру, — коротко пробасил Добудько.
— Но если полк переведут в другое место? — спросил Петенька.
— Ну, тогда поеду с полком, — спокойно ответил старшина.
— А если его расформируют? — допытывался Рябов.
— Его никогда не расформируют, — сказал Добудько. — Таких полков, наверно, во всей Советской Армии не отыщешь. Видели, сколько у него орденов на гвардейском знамени? Вот то-то и оно! А вы говорите — расформируют!
— А все-таки, ну к примеру? — настаивал на своем Петенька.
— Не годится твой пример, Рябов, — рассердился Добудько, но все же добавил: — Ежели случится такое, уйду в запас и останусь на Дальнем Севере навечно. У меня тут семья и вообще.
— И не надоело вам сухими овощами питаться?
— Дались вам эти сухие овощи! Ничего. Научимся и свежие выращивать, а потом, хлопцы, вот я вам что скажу: не одной картошкой сыт человек. В здешнем краю есть кое-что поценнее картошки. Это уж точно! Наше правительство добре знает это — потому и держит нас с вами туточка. Скажи вот американцам: продаем, мол, свой Дальний Север, покупайте! Они с рукой отымут — миллиардов своих не пожалеют. Вот он какой, наш холодный и далекий край! — Добудько развел руками и могуче и шумно вдохнул в себя воздух. — Я ще, хлопцы, дождусь того дня, когда к нам тьма народу понаедет со всех концов страны — может, и молодые мои земляки, винничане, сюда двинут! Не может того быть, чтоб такой богатый край пустовал без людей. Не может, вот побачите колысь! Ну а зараз, товарищи, пошли со мною в музей! — вдруг объявил старшина и первым поднялся из-за стола.
— В какой музей? — удивился Рябов, быстро натягивая шинель, к которой уже подбиралась из-за перегородки лупоглазая морда теленка.
— Зараз побачим! — таинственно проговорил Добудько и, пропустив мимо себя гостей, вышел вслед за ними на улицу, где по-прежнему играли ребята.
— А хлопцы ваши все в мамашу, смуглые, — сказал Петенька.
— Внешностью в жинку. Точно! А разумом и в нее и в меня, — заявил он с гордой убежденностью. Похоже, что он был неплохого мнения о своем разуме…
— Пошли за мной! — скомандовал старшина и подвел солдат к какому-то снежному кургану, вершина которого курилась, как Ключевская сопка. Добудько зашел с противоположной стороны и открыл небольшую дверь, обитую старым ватным одеялом. Из двери на морозный воздух рванулся запах навоза, парного молока и еще чего-то такого, что не назовешь, но что сразу же обличает коровье жилище.
В темном и теплом хлеву стояла, преспокойно жуя серку, обыкновенная буренка. Это и был главный экспонат Добудькиного «музея». Старшина рассказал Рябову и Сычу, что иногда по воскресным дням солдаты специально берут увольнительную, чтобы прийти сюда и посмотреть на живую корову. Три года назад ее в числе других рогатых привезли на убой. Но в пути коровенка так отощала, что резать ее не было никакого смысла, к тому же она оказалась стельной, в ту пору еще первым телком. Добудько уговорил помпохоза оставить эту животину. Тот согласился. Старшина выходил корову, построил теплый хлев, заготовил кое-как кормов, и корова прижилась. Зимой она отелилась. Того теленка старшина отдал в соседний поселок, где содержалось небольшое опытное стадо. Там, в этом стаде, находился и племенной бык.