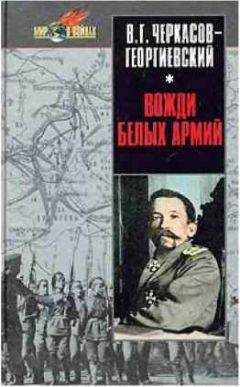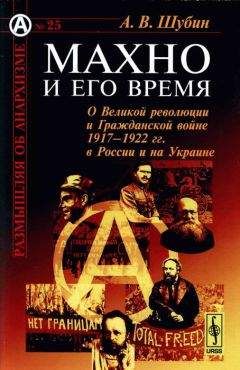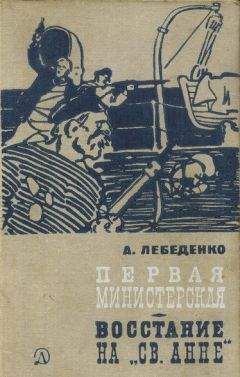Александр Лебеденко - Лицом к лицу
«В это верит Ленин…»
Это были первые часы эпохи, утверждавшей в гербе своем вместо человека-волка — богатыря с молотом, за плечами которого строится коллектив.
Не раз так бывало: не верили многие, но верил Ленин, и все выходило по Ленину.
Не пророк, не шаман, не волхв, но мозг, наилучше впитавший в себя весь опыт человечества, вождь, подготовлявший завтрашний день…
Под Николаевским мостом в вечернем сумраке стальной пластиною лежала суровая невская вода. Альфред шагал обычным звонким шагом. В этом человеке было что-то металлическое, не тяжелое, как этот мост, но стремительное, как разбежавшийся, не умеющий сворачивать локомотив. Спросить его разве, что он думает о Красной Армии? Но предполагать у Альфреда сомнения — это то же, что искать у него в карманах детские игрушки.
— Не следует чересчур много обсуждать уже вынесенное решение, — сказал Альфред, посмотрев на Алексея немного сверху вниз. — Партия обсуждала этот вопрос не раз….. еще в подполье.
Алексей уже привык — эти слова означали, что он чего-то где-то не прочел…
— Три миллиона! — в ответ своим мыслям выкрикнул Иван Седых. — Сколько ж это нужно хлеба… и сена, и винтовок! — Он подошел к чугунному борту моста и смотрел на воду, качая головой.
— Не верится? — весело спросил Садовский.
— И ни к чему…
— Не хватит турецких сабель для командиров? — В больших, еще тогда не названных велосипедом, очках Садовского, в краях толстых стекол, сверкала насмешка.
Видный комиссар из политических эмигрантов, он еще из Швейцарии вывез репутацию умницы, полемиста и критикана, политического enfant terrible. Его теоретические статьи походили на передовые газет, его передовые-памфлеты щелкали и секли, как бич. Но вместе с тем его тянуло ко всякой оппозиции, к уклонам, к излишним осложнениям вопросов. Когда он и его приятели оставались в меньшинстве, что случалось очень часто, если не всегда, он чувствовал себя героем.
— Покамест сабля себя оправдала, — сказал Седых и положил руку на серебряный эфес кривой трофейной шашки. — За нашей спиной можно мечтать и о пяти миллионах…
Иван Седых абстрактно благоговел перед Питером, колыбелью революции, и пренебрежительно относился к питерцам. Революция, совершив свое дело в столицах, ушла в заволжские степи, в пески калмыков, на неоглядные поля Кубани, где носится его партизанский отряд, о котором до этого самого Питера дошли если не легенды, то рассказы. Питер же стал для него тылом, заводом, складом, ремонтной мастерской революции.
Алексея задевал тон революционера-рубаки, но под гром победных речей Седых его собственная позиция казалась ему слабой. Вся работа питерских товарищей, вплоть до продотрядов и борьбы с засевшим в столице охвостьем царского режима, вдруг показалась ему такой тусклой и маленькой в сравнении с борьбой уральских и кубанских партизан.
Ему нравилось обветренное, изрытое оспой лицо Седых, упрямые серые глаза, по-запорожски сломанная назад папаха, его мягкие кавказские сапоги без каблуков, удобные для гор, внезапных нападений и походов.
В руках Алексея было слишком много силы и в сердце слишком много энергии, чтобы не рваться, подобно тысячам других, вперед. Этот Седых примчался в Питер, чтобы урвать здесь, у «тыловиков», пулеметы и патроны, и опять нырнет в гущу боев и набегов…
— Вы, Седых, отсюда опять на Кубань? — примирительно спросил Альфред.
— Куда пошлют. Мы, как и вы, все ходим под Цека и Реввоенсоветом, — заметил партизан. — Это по-вашему, если партизан — так значит своеволец.
— Обижаешься, партизан? Значит, ты еще не безнадежен, — вмешался опять Садовский. — Из тебя еще будет толк… Остригут твои партизанские кудри, нацепят всякие значки и ленточки во имя порядка, приставят какого-нибудь спеца из поворотливых и занумеруют, что самое главное… Но хоть пулеметы вы, Седых, по методу партизанского снабжения в Петрограде получили?
— Конечно, получил. Но вот людей, кажется, не получу. Мне нужен комиссар отряда… Поедем, Алексей Федорович, со мной. Пускай интеллигенты здесь разводят бухгалтерию на миллионы, а мы с вами и с сотнями будем брать города, устанавливать диктатуру пролетариата.
Иван Седых из сельских учителей. Прапорщиком запаса он три года тлел на фронте, исходил чадом ненависти к войне, к царю, к несправедливости и к собственной пожизненной нищете. И вдруг взорвался в семнадцатом году и, отвоевав языком в десятке комитетов, прямо с фронта бросился с отрядом в незамиренный, еще только разгорающийся пожаром гражданской войны тыл. Для Черных он — интеллигент. Но «интеллигент» у Ивана Седых — ругательское слово.
— Черных — артиллерист, — заметил Бунге.
— Я был в дивизионе первый по рубке, — не выдержал Алексей.
— Ну, значит, были лучшим кавалеристом в артиллерии, теперь будете лучшим артиллеристом в кавалерии, — съязвил Садовский.
— Мы и пушки возьмем у генералов, — отводя шутку, сказал Седых.
Алексей уже всем темпераментом был на стороне партизана против зубоскала. Его подмывало просто и грубо ругнуться.
— Черныха мы тебе, партизан, не дадим, — вмешался Порослев. — В артиллерии тоже нужны комиссары, и нелегко их будет подобрать.
Он с грубоватой дружественностью похлопал Алексея по плечу.
— Ты не спеши, Черных, — будет и тебе работа и забота…
Это говорил Порослев, недавно назначенный комиссаром артиллерийских формирований. Призыв партизана потускнел. Да, здесь, в Петрограде, гора работы, и победа здесь не менее важна, чем успехи на юге. Не хватало, чтобы кто-нибудь принялся ему это объяснять!
Седых прощался. Уже на повороте у Исаакия он остановился и крикнул Алексею:
— А ты все-таки подумай, парень, и кати со мной!
Он замер на секунду, легкий, как будто только что соскочивший с коня степной воин, который встал для любительского снимка у подножия петербургского памятника. Потом он ударил шпорами и, покачивая бедрами, чтобы слегка колыхалась на весу взятая в бою у кавказского князя шашка, пошел Конногвардейским бульваром.
— Конечно, мы — родные братья, — сказал Садовский, — но вместе нам будет тесно на настоящих фронтах. Один из нас проглотит другого.
— Вопрос организационный, — сухо и сразу все упрощая, уронил Альфред.
Алексей шагал, едва прислушиваясь к разговорам товарищей. Он был взволнован митингом и предложением Седых, казавшегося ему вестником быстрых и жгучих южных фронтов, и намеком комартформа. За эти несколько месяцев Алексей прожил целую жизнь. Он был в команде Совета, работал в красногвардейских отрядах, добывал хлеб для Питера, проводил демобилизацию старой армии и сколачивал с Альфредом, Порослевым, Садовским и другими первые части новой армии. Правда, после революции он не был в боях, но разве можно сказать, что он не видел за это время врага в лицо? Он бывал на обысках, кончавшихся перестрелкой. Он брал кулацкий хлеб, рискуя заработать пулю в лицо или нож под ребро. Когда смутьяны бросили в среду демобилизованных солдат бывших гвардейских полков призыв делить военное имущество, кто, как не он, вел успешную борьбу за сохранение складов, цейхгаузов, инвентаря, боевых запасов для пролетарской армии? Он допустил ошибку в Докукине, но он осознал свою неправоту, хоть и не сразу, но со всей искренностью, какая подобает революционеру.
За этот год он прослушал в партшколе двенадцать тематических бесед, которые стали для него двенадцатью главами нового евангелия. Они приводили в порядок его собственные мысли, определяли раз навсегда его отношение к революции и утверждали за ним высшее право на борьбу. Алексей знал теперь, что такие, как он, рассеяны по всему миру и ждут только случая протянуть ему руку союза в борьбе. Этот год дал ему не меньше, чем дал семнадцатый, и он знает теперь, как взять еще больше у девятнадцатого…
Садовскому необходимо было повидать Чернявского. Решили зайти в «Асторию» всей группой.
Чернявский в мягких туфлях и расстегнутом френче стоял в крохотной передней двойного номера. Он, видимо, прощался с человеком в потертом пальто и теплом кашне.
Алексей узнал в нем Острецова. Никогда он не подозревал этого тихого, болезненного человека, играющего по вечерам в одиночестве на пианино, в знакомстве с коммунистами.
— Я очень рад, что познакомился с вами. Мне просто повезло. Вы человек широких горизонтов, — убежденно говорил приват-доцент Острецов, помахивая черной шляпой.
Еще взъерошенный и возбужденный каким-то предыдущим разговором, Чернявский поморщился. Это прозвучало для него, как если бы ему сказали: «Скажите, пожалуйста, а ведь вы не вор».
— Э, черт! Какие горизонты… Вот всех моих горизонтов не хватает, чтобы понять, как вы, окончивший два факультета, сохранили до сих пор такую социальную наивность.