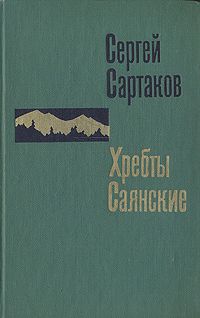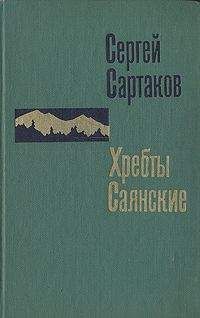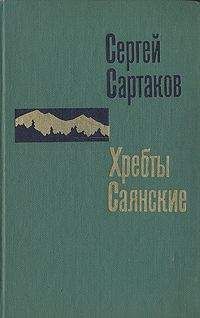Сергей Сартаков - Гольцы
Ну? — спросила односложно мать, чувствуя, что сын сейчас скажет что-то очень тяжелое для него.
И если она там, в среде других людей, поймет не понятое мною и придет к убеждению, что те люди выше, умнее меня? Мама, ведь тогда конец нашей любви!..
Да, — ошеломленная этим выводом, сказала Ольга Петровна, — это может случиться. Любовь слепа бывал недолго.
Мама, Анюта не получит высшего образования, это теперь вполне ясно. Но ведь она с радостью учится другому, этим заполнена вся ее жизнь. А я со своим образованием… Ну, я не знаю, как его приложить к жизни, кроме того, что я лечу больных, а этого, видимо, недостаточно. И знаешь, мама, мне кажется, что Анюта поступает лучше. Но у меня не хватит характера…
Ольга Петровна прислонилась плечом к спинке дивана, медленно погладила лоб кончиками пальцев. Вот он и назрел, такой разговор… Можно ли принять все на себя? И ко всему тогда уронить еще и авторитет матери…
Алеша, — сказала она, — Анюта поступает правильно. А твой характер… Да… Тебе будет очень трудно, Алеша. Но я буду помогать тебе исправлять характер. Мне тоже сейчас тяжело. Очень тяжело. — Ольга Петровна с трудом улыбнулась. — Такая уж всегда моя доля…
И, чтобы не позволить сыну отозваться на это, она быстро добавила:
Ты так и не ответил мне, Алеша, почему Анюта переезжает в Томск.
Миша сказал, что там тоже нужны наборщицы и что Анюта очень любит Сибирь.
Он отошел к окну и стал там в свою любимую позу — упершись руками в косяки. Вид Вознесенской горы его всегда успокаивал, приводил в порядок мысли. Так он долго стоял и в этот раз, наблюдая, как движутся по Московскому тракту подводы. Желтая лента песчаной дороги под прямыми, жгучими лучами солнца, казалось, плавилась, и колеса подвод, как по вязкой смоле, с трудом катились по ней. Ольга Петровна сидела молча. Она знала привычку сына и не мешала ему.
Мама, — не оборачиваясь, вдруг сказал Алексей Антонович, — зпаешь, какая мысль мне пришла сейчас в голову: ведь этой именно дорогой вели на каторгу моего отца?
Туда другой дороги нет, Алеша.
Да, другой дороги нет. И еще скажи: он был более чем просто знаком с Бакуниным и Ткачевым?
У меня нет причин и теперь скрывать это.
И… прости меня, мама, я — врач, но милостью врагов моего отца. Хорошо ли, что ты просила этой милости?
Я — мать, Алеша, — тихо сказала Ольга Петровна-- А ты тогда был мальчик.
Ты говоришь — тогда?
Да. А теперь ты мужчина.
Алексей Антонович опять замолчал. Ольга Петровна подошла и обняла его за плечи.
Алеша, — сказала она, — Михаил Иванович тебе ничего не оставил?
— Да, мама, оставил. Они поняли друг друга.
Надо спрятать получше.
Я тоже об этом думаю, мама.
И Алексей Антонович весьма обстоятельно передал ей свой разговор с Лакричником. Ольга Петровна внимательно выслушала его.
Алеша, как ты мог предварительно не проверить окна?
Я был уверен, что они закрыты. Неужели Геннадий Петрович мог слышать наш разговор? Знаешь, мама, меня тревожит, что он за последнее время как-то особенно неприязненно настроен ко мне. И это стало заметно с тех пор, как я объявил ему выговор.
Выговор? За что, Алеша?
Он предлагал одной женщине — Коронотовой — выдать за деньги ложное медицинское свидетельство.
Геннадий Петрович мне и всегда казался непорядочным, нечестным.
Это верно. Я очень не люблю его.
Так почему же ты никак не освободишься от него?
Я говорил с Барановым, мама. Он не позволил мне уволить.
Почему?
Не знаю. Но он явно покровительствует ему. Мне показалось, что Баранову просто хочется, чтобы Геннадий Петрович непременно был. при мне.
Тогда тем более надо спрятать литературу как можно надежнее.
Я сделаю хороший тайиик в шкафу, который стоит в темной кладовке.
12
Лакричник выбрился особенно тщательно. После бритья он умылся и причесался. Долго сидел перед зеркалом, подравнивая ножницами усы и выщипывая волоски, выросшие на кончике носа.
Столь же внимательно и прилежно он подстриг и вычистил ногти и перешел к осмотру костюма. Брюки хотя и пролежали три ночи, утюжась под матрацем, но не давали той тонкой и острой складочки, что радует сердце любого щеголя. К тому же они сильно лоснились сзади. Пиджак был не лучше. Правда, явные дыры на локтях удалось замаскировать, нанеся паутину из черных ниток, но борта обтерлись настолько, что по кромкам сукно торчало бахромой, а кое-где белела обнажившаяся подкладка. Как плотно ни подстригал Лакричник бахрому и как он ни замазывал чернилами подкладку, все же трудно было и после такой обработки назвать костюм приличным.
Оглядев себя еще раз в зеркало, он взялся за фуражку и покачал головой.
Зря я в картуз сырые яйца клал на базаре, — с сожалением сказал, разглядывая темное пятно на зеленом сукне, — раздавилось одпо яичко и хорошую вещь попортило. А вот козырек я уже и не помню, где и как сломал. Ну да ладно: по одежке встречают, а по уму провожают.
Через полчаса он постучался в парадное крыльцо нового дома Василева. Дверь открыла Клавдея.
Дома Иван Максимович? — протискиваясь между косяком и Клавдеей, спросил Лакричник.
Дома.
Не спят?
Нет, у себя в кабинете занят.
Разрешите же войти, — отвел он руку Клавдеи, немного задержав ее в своей руке.
Ну, ты еще! — вскрикнула Клавдея и ударилась локтем о косяк.
Вот боженька и наказал, — хихикнул Лакричник, входя в сени. — Где они занимаются? — остановился он в коридоре.
Говорю, в кабинете. Вот прямо сюда, — сердито ответила Клавдея и, потирая локоть, ушла па кухню.
Лакричник отыскал указанную ему Клавдеей высокую филенчатую дверь кабинета.
Разрешите побеспокоить? — спросил он в узенькую, едва заметную щель.
— Войдите! — донеслось изнутри. Лакричник вошел.
Василев сидел за письменным столом и что-то писал. Он еле поднял голову и небрежно указал Лакричнику на стул.
Фельдшер Шиверской уездной больницы Геннадий Петрович Лакричник. Пшикин, — добавил он и приятно улыбнулся.
Потом взял стул за спинку рукой, придвинул ближе к столу и сел — спокойно и твердо. Осторожно снял фуражку, положил ее на колени, поправил прическу и снова усмехнулся.
Знаю, — ответил после паузы Иван Максимович. — Чем могу служить?
Разрешите? — спросил Лакричник, указывая на зеркало, и, получив утвердительное «пожалуйста», подошел и неторопливо счистил пятнышко на лацкане пиджака. — Зашел выразить искреннее соболезнование, Иван Максимович, по поводу постигшего вас несчастья, — сказал он, возвращаясь обратно.
Ну? — промычал Василев, наклоняя по-бычиному голову. «Что это, шпана всякая соболезновать вздумала?» — закончил он уже мысленно.
Смею пожелать вам дальнейших успехов, Иван Максимович, и выразить надежду, что нанесенный вам страшным несчастьем ущерб не окажет тяжелых последствий в вашей дальнейшей плодотворной работе па пользу отечества и вы найдете в себе душевные силы для вящего…
Простите, господин… Лакричник, — перебил его витиеватую речь Иван Максимович, — это все, что вы мне имеете сказать?
«Пьян он, что ли?» — мелькнула догадка. Лакричник опять улыбнулся.
Простите за беспокойство, Иван Максимович, — встал он и поклонился, — но, многократно раздумывая в эти последние дни, пришел я к твердому решению переговорить с вами, посоветоваться…
О чем? — холодно спросил Василев.
О случившемся пожаре, Иван Максимович, — выдвигая подбородок и закрывая глаза, поспешно закончил Лакричпик.
«Нет, не пьян», — пожал плечами Василев — и вслух:
Что же имепно хотите вы мпе сказать?
Двадцать два дома, не включая вашего, сгорело,
Иван Максимович.
_ Да. Знаю. Продолжайте.
Двадцать две семьи остались без крова.
Продолжайте.
По свойственному многим людям легкомыслию,
дома погорельцев оказались незастрахованными.
Так. Что еще?
Смею думать, ваш домик, не в пример другим, был застрахован?
Ну и что же?
И, получив страховое вознаграждение, вы не понесли никакого ущерба?
А вам-то… что до этого… господин… Лакричник? — раздраженно двинул счеты по столу Василев.
Смею думать, Иван Максимович, — нисколько но смущаясь, продолжал Лакричник, — смею думать, что при вашей опытности в любых делах, — он сделал легкое ударение на слове «любых», — вы не понесли ущерба, как другие, но, возможно, совсем наоборот — получили некую пользу.
Это черт знает что! — встал Василев. — Что вам, собственно, нужно?
Не обладаю счастливой способностью быстро высказывать свои мысли, но имею к вам одно очень большое, важное дело. Извините.
Говорите скорее…
Вы меня все же извините, Иван Максимович. Не прошу, не торопите меня.
Ну, говорите же! — еле сдерживая гнев, ответил Иван Максимович.