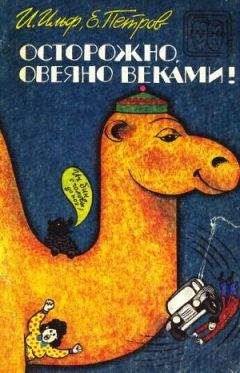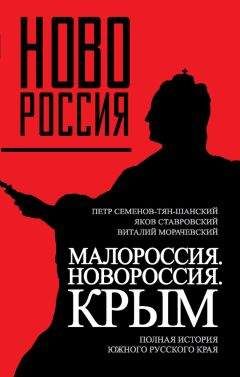Виктор Шкловский - Энергия заблуждения. Книга о сюжете
Вот текст великого Гоголя – клятва в завтрашнем свершении: прием, как жертва труда, который пойдет на завершение написанного.
Это «Пророк» Пушкина.
Вещь, которой поклонялся Достоевский.
Умел читать.
Она как будто рассказывает о нападении сильного на слабого, на изуродованное – почти на уничтоженное.
Нет.
В жизни мира, и даже в жизни дерева, и в жизни прозы и стиха это только стадия свершения.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Так строятся стихи.
И так моменты создания держат все строительство.
Их очень трудно создавать.
Их не нужно торопить.
Как хороши записи Пушкина.
Его черновики.
Как горячи дневниковые мучения Толстого.
Я представляю вам маленький кусок гоголевской прозы.
Это осталось как бы вырванным.
Но в нем записан мир, еще никем не понятый.
Вход в великое и неоткрытое пространство.
Я придержу дверь.
Чтобы вы вошли.
«Великая, торжественная минута. Боже! Как слились и столпились около ней волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая, неотразимая грань между воспоминанием и надеждой. Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже пересиливает его надежда… У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О, не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот так заманчиво наступающий для меня год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или… О, будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834-й год? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня – о, разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною! Пусть твои многоговорящие (многозначительные; разночтение по черновику. – В. Ш.) цифры, как неумолкающие часы, как совесть (как завет. – В. Ш.), стоят передо мною: чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слух мой, чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное потрясение во всем моем составе[7]. Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, – этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? (это город «Повестей». – В. Ш.). В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарником, с своими гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. – Там ли? – О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший со своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свод небесные (чистые. – В. Ш.) очи. Я на коленях. Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною… прекрасный брат мой! Я совершу… Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу… О, поцелуй и благослови меня!»
Читая, думаешь, Гоголь обращается к «гению» как к чему-то, что существует отдельно от человека.
Как пушкинский Пророк.
Гоголь не сразу дошел до мирового читателя.
Его переводил Луи Виардо.
О нем писали – человек говорит о деревенских простаках, да еще русских, и «это всегда интересно для французского читателя».
Его перевели еще раз совсем недавно.
Я не видел это совсем новое издание.
Знаю, оно иллюстрировано какими-то крупными современными художниками.
Гоголь поразителен.
Он поражает читателя; «это не золото, это яшма».
Необычайно плотный, как будто природой рожденный, неодинаковый рисунок – свой мир.
Гоголь явился очень органично.
Он явился после большой поэзии.
После показа человека, людей, которые могут быть названы героями не своего времени.
Люди как будто не помещались в нем.
Это знал светлый Пушкин.
Узнавал Лермонтов.
Это знал Гоголь.
У Гоголя всегда фон не рядом с героем, а за героем, —но так весомо и точно, что кажется находящимся и перед, и за героем.
Это еще не разработанная жила драгоценного видения.
Невский проспект не фон для героев, не фон для бедного, не имеющего платья, для того, чтобы походить на привилегированного человека, не для человека со странным именем Акакий Акакиевич.
Акакий Акакиевич – человек великого смирения; этим святой Акакий выделялся среди многих святых.
Его старец, духовный хозяин, мучил своего безответного подчиненного.
Когда Акакий умер, его похоронили, то старец сверху сказал мертвому: – Ну что, лежишь, Акакий? И мертвый ответил: – Блаженны нищие духом, узрят они бога.
Акакий Акакиевич в последних своих дыханиях перед могилой восстал, и стал снимать шубы с людей, и ругаться, как извозчик.
Он не был растоптан.
Он был жив, как примятая рожь, которая не может не встать.
Он встал у Достоевского.
Поприщин самолично объявил себя испанским королем, потому что в Испании не было короля, была неразбериха претендентов; не было у человека, которому лакеи предлагали понюхать табаку из своей коробки, не было для этого человека, у которого вместо волос на голове было сено, не было ему места на этом свете.
Он любил дочку своего начальника.
Это был несчастнейший герой романа.
Пространство России было не наполнено еще самопознанием.
Великие степи, родные, но как бы не самим Гоголем увиденные, лежали за его униженными.
Вот этот герой, об него обтирали ноги другие, тоже бедные люди; обтирали, как о половик.
У него было великое восстание души.
В голове, на которой не было волос, было смешное для женщин сено, – у этого человека в груди было нечто плотное, как описание Днепра.
Невероятное; потому что часто только невероятное может описать бытовое.
Чрезвычайный художник, который очаровал Пушкина.
Вот этот человек сам себе не знал цену и был одновременно Тарасом Бульбой и Акакием Акакиевичем.
Который любил только свой почерк и иногда терял себя на улице, потому что улица казалась ему строкой, а он – буквой среди строки, смысла которой он не понимал.
Гоголь – писатель, описывающий ничтожных как великих.
Он в пейзаже видит круглоту земли. Когда Тарас Бульба с сыновьями уезжает от родного дома, то док исчезает мало-помалу.
Прячется за кривизной земли.
Это и украинские степи.
Это и степь «Слова о полку Игореве».
Степь, которую Чехов считал еще никем не описанной. Он поверил, что это можно передать, записав впечатление ребенка.
Вот этот самый человек и написал «Ревизора».
Хлестаков был голоден и вел себя как все голодные люди.
Его напугал другой напуганный человек. Один кричал, другой извинялся. Потом тот же человек, который извинялся, его накормил, напоил из толстобрюхой бутылки.
Хлестакова начало рвать кусками смысла. Он говорит, удивляясь тому, что он говорит. Он вырастал во вранье, поднимаясь все выше и выше.
Он становился если не самим императором, то испуганной, машущей руками тенью правительства, которое скоро увидит корабли врагов недалеко от Санкт-Петербурга.
Величие ничтожества, каменные волосы, пестрота недрагоценной яшмы, из которой нельзя даже вырезать портрета.
Хлестаков трагичен потому, что он испуган.
Он врет, как человек, который хочет отодвинуть трагическое время казни хотя бы на три минуты. И он попадает в поток лжи, набрасывая ее, как подушку на подушку в доме какой-нибудь старосветской помещицы.
Его напоили; когда он протрезвел, его одолело желание еще перед кем-то встать, как большой петух с раскрытыми крыльями встает перед курицей.
Он танцует танец па-де-труа. Ему приходится одновременно признаваться в любви дочери и матери, и обе податливы.
И обеих нет, они только тень дыма.
Бессмысленность поведения людей, их страхи, их неумение давать взятки рождены их умением брать взятки.
Они люди с одной рукой.
А других заставили быть покорными, кого-то подлечивать, подкупать.
Видел такие взвихрины при дорогах, которые встают маленькими серыми движущимися башенками, как несуществующие ведьмы.
Земля создавала ведьм Шекспира, они были пузырями земли.
Хлестаков – это кашель земли, которая задыхается; она не может жить.
Он грандиозен, бессмыслен и успевает уехать, вероятно, на тройке, читатель успел его пожалеть.
Слуга Дон Жуана видел успехи барина. Осип презирает своего барина с высоты маленькой лавочки, расположенной в подвале.