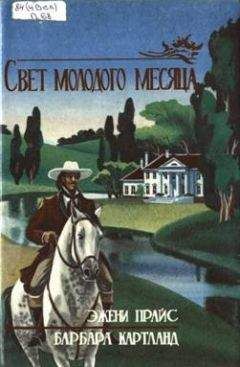Владимир Мирнев - Нежный человек
– Алеша, снежок выпал!
Коровкин никак не мог оторваться от сна, отворачивался, зевал, удивленно разглядывая стол, кухню.
– Алеша, снег выпал! А это к хорошему. Теперь все уладится замечательно.
– Снег-то – плохо; для строителя – всегда плохо; дождь – плохо, а снег еще хуже.
– Снег выпал, – повторила просветленно Мария, придя к успокаивающей мысли, что теперь с Топорковой все обойдется.
К семи часам утра Мария и Коровкин приехали в роддом и узнали, что Аленка Топоркова родила дочь, и, хотя роды прошли не без хирургического вмешательства, Мария восприняла сообщение о родах, как свою собственную победу, маленькую, но победу, которую одержала над невидимым противником. Уйдя в радостные мысли, она забыла вчерашнее, с таким облегчением сбросила тяжелую ношу вины, которую на себя взвалила ночью, и радовалась вдвойне: рада была за подругу, у нее родилась дочь, самое важное – случилось. Можно жить спокойно на белом свете, и вина ее, состоявшая в том, что она настаивала на проведении свадьбы, теперь не будет так остро ощущаться.
– Справедливость всегда была, – сказала обрадованно Мария. – Вчера что случилось! Знала б телефон Мишеля, я б его, паразита, отчитала так, на всю жизнь запомнил бы, черт. Но зато сегодня – дочерью обзавелась Аленка, а что еще прекраснее, чем ребенок! Нет, Алеша, – продолжала Мария, хотя ей никто не возражал. – Есть справедливость! – Мария говорила и говорила и не могла остановиться. От своих же слов у нее в душе словно что-то перестраивалось, очищалось, будто кто-то невидимый строил там светлое и чистое здание необыкновенной красоты.
– Мастер Алеша Коровкин, приходи сегодня. Приходи обязательно, я буду ждать тебя. Алеша, ты хороший, ласковый, добрый человек, мне с тобой хорошо так.
Надо знать характер Коровкина, чтобы представить, как он от услышанного взмыл орлом, почувствовав, что именно сегодня он вполне смог стать великим человеком, хотя бы по той причине, что даже не каждому там Наполеону или Юлию Цезарю выпадало услышать такие слова от прекрасной женщины. И он, вознесясь в самые необозримые сферы, видел вокруг себя чудесные картины светлого движения от прекрасного к еще более удивительному. Мурлыча себе под нос услышанную частушку, торопился на работу. Вот она, частушка:
На стене висит табличка:
«Гражданин, не плюй на пол!»
Посмотрел он на табличку,
Плюнул на пол и – пошел.
Откуда только, скажите пожалуйста, у человека от таких вот незначительных и в общем-то дрянных словечек, услышанных им на стройке от захудалого работничка Юрки Семенова, могли появиться за спиной крылья, сообщавшие его походке легкость, воздушность, привносившие в его легкоранимую душу такую твердость и уверенность в себе.
***
Марии пришлось еще целый месяц ходить в роддом, пока Топоркова не выписалась из больницы.
Как ни старалась Мария, Топоркова лучше себя не чувствовала, молчаливая лежала на диване, вперив воспаленные глаза в потолок, и на вопросы подруги не отвечала. Молоко у нее пропало, и Марии пришлось но нескольку раз в день бегать за всякими детскими смесями и молоком в пункты детского питания.
Ребенка назвали Ксюшей. Девочка кричала с утра до вечера по поводу и без повода. Но то простое бытовое обстоятельство, что ребенок кричал, Марию не очень тревожило, потому что, как она знала, каждый здоровый ребенок обязан кричать. Беспокоила Марию подруга, которая никак не могла прийти в себя после потрясения. Она с каждым днем сохла, теряла аппетит, замкнулась. Мария видела: подругу очень угнетало происшедшее, неумолимо преследовала навязчивая мысль о случившемся.
Мария разрывалась на части между заботами о подруге, ребенке и работой. Ведь с утра необходимо привести в порядок дворы, детские площадки, подъезды, убрать мусор из урн, собрать в скверах бумагу. И как нарочно, Ромуальд Иванович направил ее на курсы повышения квалификации бухгалтеров, объясняя подобный шаг производственной необходимостью. Мария еле справлялась со своими делами, отнимавшими уйму времени, а тут еще дважды в неделю вечером приходилось посещать эти курсы. У Топорковой началась в осложненной форме грудница, ее увезли врачи, и три недели, пока подруга находилась в больнице, Мария ухаживала за ребенком одна, даже на курсы брала его с собой. Занятия проходили на первом этаже, и коляска, в которой лежала закутанная в пуховое одеяло Ксюша, стояла под окном, на виду у Марии. На курсах Мария объясняла, что это ее ребенок.
Вернувшаяся из больницы Топоркова приобрела еще одно, далеко не изумительное качество: стала нервной и раздражительной. Порою, когда Ксюша особенно лютовала, оглашая квартиру плачем, Топоркова раздраженно кричала:
– Да заткни ей глотку!
Мария все чаще и чаще брала Ксюшу к себе домой. К тому же так было удобнее – первый этаж, поставит коляску под окном и наблюдает из окна, делам это не очень мешает. Комната у Марии не меньше, чем у подруги, прихожая даже просторнее. Но к Топорковой Мария заходила часто, порою по нескольку раз в день: беспокоилась о здоровье.
Как-то в конце декабря, оставив Ксюшу с Коровкиным, Мария отправилась к Топорковой и застала ее в ярости; подруга стремительно ходила по квартире, пинала с несвойственной ей силой вещи и тяжко стонала.
– Что случилось, Алена? – спросила Мария, наблюдая за побледневшим, осунувшимся лицом подруги.
– А то! Сволочь! Знай! Этот Мишель Саркофаг так называемый вовсе не посол! – вскричала со злостью Топоркова, схватила со стола одну из многочисленных фотографий Мишеля и с силой бросила на пол и затопала на ней. – Он не посол! Не посол!
– А кто?
– Подлец!! Негодяй!! Сволочь! Идиот! Шизик! Уркаган! Кретин! Подонок! Болван! Бандит с большой дороги! Вор! Грабитель! Негодяй! Я так и знала, я так и знала! Боже мой! Меня обвести вокруг пальца! – Топоркова не сдержалась и заголосила: – Я догадывалась, чувствовала подвох! А он, а он, подлец, корчил из себя посла. Сопровождал президента, премьер-министра, короля, а он ездил на юг и привозил оттуда для продажи цветы! Подарки носил каждый день, как порядочный человек… «Моя Прекрасная Елена». А я с самого начала чувствовала, у меня же нюх на подлецов, у меня же сердце все время болело! И эта свадьба! Собрал своих дружков-торгашей… А я чувствовала… Весь Кавказ пригласил свой.
– Почему молчала? – Мария сочувствовала подруге и до конца ее не понимала. – У него фамилия – Саркофаг?
– Он Михаил Сараев! Он – негодяй, понимаешь ты или не понимаешь? Негодяй, а никакой не Саркофаг и не герцог!
– А чего же тогда?.. – не понимала Мария.
– Чего, чего! Кто ж думал, обыкновенный жулик цветочный будет ездить на черном «мерседесе», швырять пачками денег, одеваться во все заграничное и – самое лучшее! Кто? Икру жрать – как воздухом дышать! Говорит вежливо, ни одного грубого слова, ласка, теплота, кто думал, что жулик так обхитрит меня? Кто? Кто? На «мерседесе»!!!
– А кто ж, ты считаешь, ездит?
– Цветы возил! Розы! Гвоздички! Каллы! Тюльпаны! Все красиво, не подумаешь ни за что, что жулик их дарит, – вот весь его дипломатический код, Маня! А когда, помнишь, говорил, ездит в сопровождении главы правительства – за цветами летал! Бандюга! Чтоб его засудили на сто сорок лет! Вчера из милиции приходили, говорят, была ли я на квартире у него на Арбате? Вот куда мы заезжали тогда, а он с «дипломатом» вышел. Помнишь? У него там квартира в новом кирпичном доме, записанная не на него, а деньги платит он. И там, представь себе, золота оказалось на сорок девять тысяч. Господи, унитаз – из хрусталя! Вот как воровал! Унитаз – из хрусталя! А вчера письмо прислал! – Топоркова судорожно порылась в сумочке, извлекла оттуда письмо, разорвала его на мелкие кусочки и выбросила с балкона. Клочки бумажек смешались с хлопьями падающего снега. После этого Аленка немного успокоилась, стала говорить более спокойно.
– Знаешь, Маня, подходит, говорит с акцентом, намекает, что он из одной далекой страны, одевается получше иного посла, а обхождение, ты видела, – не мужик, не грубиян, вежливость у него. А сам-то, а сам-то в Москве имел квартиру с хрустальным унитазом – неслыханно! Купец! В наше время! Мне сказали, и я не поверила, потому это представить трудно.
– А как же так? – удивилась Мария.
– Ходил с «дипломатом», а в «дипломате» у него – пачки денег, если нужно что – пачка все решала. Его арестовали тогда в «Праге», и там у него с собой было сто семь тысяч. На книжке сколько у него, не сказали – так много. Он, оказывается, не сбежал со свадьбы, а его арестовали прямо у входа. Вот негодяй, слушай, ну не подлец ли? Продавал цветы на Центральном рынке. Он привозил, а продавали другие, он им платил.
– Как же теперь-то будет с Мишелем?
– Знаешь, слушай, унитаз-то с подсветкой, сказали мне, хрустальный и с подсветкой! – воскликнула Топоркова, которой не давал покоя хрустальный унитаз. – Сам жил с хрустальным унитазом, а теперь просит в письме зайти к нему в тюрьму. Зайди к нему! Он мне нужен?! Слышь? Нет уж, Мишельчик, поищи себе дуру. Была дура и сплыла. Уголовник просит: зайди, пожалуйста! Хватит! Я и так нюни распустила. Я никогда не пойду. Никогда! Я пойду, Маша? Никогда! Запомни. Пусть издохнет, а не зайду. Притворялся послом, кретин, обманывал! За такое, я узнавала, не меньше пятнадцати лет ему грозит. Письмо прислал: я тебя любил единственную, Прекрасная моя Елена. Нет уж, пусть для него прекрасной будет тюрьма!