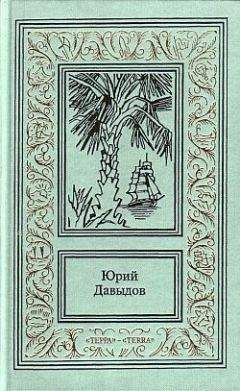Григорий Кобяков - Кони пьют из Керулена
День проходит, два проходит. Верблюд все в горы смотрит и ждет, когда вернется олень. А тот, коварный и хитрый, вовсе и не собирался возвращаться. Зачем отдавать рога, которые так ему понравились?
Бедный верблюд до сей поры все смотрит в горы и ждет оленя. От того, наверное, такой гордый и обиженный вид у него.
Сказочка мне понравилась. Усмехнувшись, я спросил:
— Неужели я похож на обиженного верблюда?
— Сегодня — почти, — снова рассмеялась Алтан-Цэцэг и в темных глазах ее я увидел лукавые смешинки.
— Но меня никто не обижал…
— Друзья не обижают, — уже без смеха ответила она.
Настроение у Алтан-Цэцэг было светлое и даже чуточку шаловливое: она не чувствовала усталости, ее не томила жара. Здесь, в этих степях, на этой дороге, под этим немилосердно палящим солнцем она была дома.
Не знаю отчего — оттого ли, что легкий ветерок над степью повеял, оттого ли, что пятиминутную остановку сделали и немного размялись, от радостно-возбужденного настроения Алтан-Цэцэг, которое не могло не передаться мне, от всего ли вместе, но только мне стало легче дышать. Жара теперь не давила, она как бы отхлынула от меня.
— Вам что-нибудь спеть? — вдруг спросила Алтан-Цэцэг.
— Спойте! — попросил я.
Алтан-Цэцэг запела. Голос ее, тонкий и переливчатый, как голос жаворонка, и раздольный, как степь, рассказывал о чем-то хорошем и радостном. Пела она недолго. Когда смолкла, я спросил:
— О чем песня?
— Обо всем, — улыбнулась она и, описав рукой полукруг, добавила: о степях, о небе., о новой жизни. В русском переводе это будет звучать примерно так:
Ветер и небо,
степи и воды.
Верой и правдой нам служат теперь,
Воле народа
покорна природа —
В будущее открывается дверь…
Задумалась на миг и, как бы размышляя вслух, продолжала:
— Помните наш разговор о национальном характере? Действительно, живем мы пока медленно. И кое-кто склонен считать, что ускорять темп жизни незачем, что не надо торопить время в степи. Течет себе и течет. Куда спешить: дней в году много и лет в жизни много. Для старой Монголии это подходило, а нам не подходит.
Нам есть куда спешить, мы, как поется в песне, дверь открываем в будущее. А будущее, — Алтан-Цэцэг проследила за круто взмывшим перед самой машиной коршуном, добавила: — это механизация всех работ, электричество, скорости. Значит, степь не мажет оставаться неизменной, вот как эта…
Мы далеко уже уехали и от поселка, и от полевого стана научной станции, где провели утро. Здесь степь была действительно другой, наверное, такой же, как пятьдесят, как сто лет назад. Качались белые ковыли, в них большими темными плешинами врезались выжженные солнцем участки с жухлой и хрусткой побуревшей травой. И нигде, сколько доставал глаз, не было видно ни отары овец, ни табуна лошадей, ни веселого дымка.
— Степь не должна быть такой! — твердо закончила Алтан-Цэцэг.
Я внимательно поглядел на ее чуть прищуренные глаза, на сдвинутые брови, на пальцы, сжатые в крепкие кулачки. Все выражало решимость, но не ту, какая бывает у людей в минуты отчаяния, а продуманную, спокойную, наполненную силой решимость преобразователя и творца.
Такие вот, как Алтан-Цэцэг, как ее товарищи с научной станции свою молодость проводят торопливо, неуютно, как-то вразброс. Но кто скажет, что без этой торопливости, неустроенности, без жадного стремления больше узнать, выполнить скорее задуманное может существовать молодость.
— Что вы успели сделать за эти немногие годы? — спросил я Алтан-Цэцэг, когда мы рано утром ехали на полевой стан.
— Вы имеете в виду работу Научной станции?
— Да.
— Мы ответили на первую и главную часть вопроса, когда-то поставленного жизнью, и ответ этот удивил не только самых пылких оптимистов, но даже и нас самих.
— Чем же?
— Халхин-Гол — благодатный край и для животноводства и для земледелия — и это теперь не теоретические предположения, не гипотезы, а выводы, подтвержденные многими опытами. Растет, созревают и дают высокие урожаи пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, просо, кукуруза на зерно, лен, подсолнечник, картофель, свекла, помидоры, огурцы, арбузы, дыни. Здесь плодоносят яблони и вишни… Опыты мы продолжаем. Но теперь с маленьких делянок переходим на большие производственные площади. Научные работники — их у лас сейчас около трех десятков — ведут, как говорят геологи, детальную разведку: изучают и отбирают наиболее урожайные сорта, изучают почвы по участкам и составляют почвенные карты, испытывают новые культуры, новые породы скота. Ученые Забайкалья свою беспородную, но крепкую и выносливую овцу одели в тонкорунную мериносную шубу, создав забайкальскую высокопродуктивную породу. Используя опыт и помощь соседей, мы теперь одеваем монгольскую овцу в забайкальскую шубу. И получается неплохо.
На полевом стане я рассчитывал встретить пусть молодых, но уже солидных ученых мужей. А встретился с безусой юностью. «Ученые мужи» в своих простых рабочих куртках и телогрейках, в кепочках с пуговицами, в беретках и спортивных шароварах очень смахивали на студентов, приехавших на уборку урожая. Даже в общежитии у них был студенческий беспорядочно-условный порядок: на постели валялась раскрытая книга, на столике лежал черствый кусок хлеба и стояла кружка с водой, на скамейке — шахматная доска с не доигранной партией, на стене — гитара.
Недолго я побыл среди — этих ребят, но понял, что это настоящие люди — веселые, решительные, целеустремленные.
В тесной конторке, заставленной всевозможными мешочками с зерном различных культур и сортов, снопами, Алтан-Цэцэг познакомила меня с директором Научной станции Хучиром. Хучир, как и его сотрудники, был одет в рабочий спортивный костюм и кирзовые сапоги. Как человек, влюбленный в свое дело, он отчала потащил меня по опытным делянкам, а потом, вернувшись в конторку, развернул передо мной карту Прихалхинголья, исчерченную цветными карандашами.
— Вот, смотрите… Два с половиной миллиона гектаров земли. Когда-нибудь они станут монгольской Кубанью… Часть этой площади исследована. Выявлено двести семьдесят три тысячи гектаров земель первой и второй категорий и триста тысяч гектаров сенокосов. Мы сейчас вошли в правительство с предложением о создании здесь десяти-двенадцати госхозов…
Хучир ткнул карандашом в ленту Халхин-Гола.
— Если вот здесь, в среднем течении, перегородить реку плотиной, а вот здесь прорыть стокилометровый канал… Дальше, до самого Буир-Нура, вода пойдет самотеком по руслам давным-давно высохших древних речек…
Карандаш остановился у Буир-Нура. Хучир поднял голову. Я залюбовался им. В эту минуту он был похож на военачальника, подготовившего со своим штабом план генерального наступления. А карта, что перед ним лежала, напомнила ту военную двухверстку, на которую наносились направления атак, прорывов, штурмов. Да, так, пожалуй, оно и было. Только тут атаки и штурмы были бескровные.
— Мы можем оросить двести тысяч гектаров и создать поливное земледелие. Если к этому создать еще лесные полосы, чтобы преградить путь и ослабить силу весенних гобийских ветров, то все это, вместе взятое, будет означать полную независимость от капризов природы.
Хучир остановился, перевел дыхание и виновато поглядел на Алтан-Цэцэг, как бы спрашивая: «Не слишком я увлекся?» А я понял: Алтан-Цэцэг, видимо, один из авторов этого величественного плана.
— Мы тут прикидываем, — продолжал директор, — на строительство плотины и канала потребуется шестьсот миллионов тугриков. Затраты для нашей страны большие. Но они окупятся в течение одиннадцати лет…
И вот сейчас, в дороге, размышляя о коллективе Научной станции, об Алтан-Цэцэг, я подумал, что совсем еще мало знаю ее. Эта маленькая женщина, сидящая рядом, открывалась мне все новыми гранями.
Я повернулся к Алтан-Цэцэг. Наши взгляды встретились.
— Вам скучно со мной? — вдруг весело рассмеялась она. — Я все толкую о деле да о деле…
— Скажите, вы любите степь? — спросил я и сам себя выругал: надо же быть таким олухом, чтобы ее, потомственную степнячку, спрашивать об этом.
Алтан-Цэцэг помолчала. Подумав чуть, все же ответила:
— Степь я не люблю!
От удивления и растерянности я онемел. Казалось, сейчас она повернется и расхохочется мне в лицо. Но она даже не улыбнулась. Сидела и задумчиво глядела на летящую под колеса дорогу. Моя же мысль почему-то толкнулась в далекое прошлое, в солдатскую юность.
Я вспоминал страшные бураны, бушевавшие в степи, те мартовские двое суток, когда мы искали потерявшегося Максима. Вспоминал лютую стужу, от которой леденела кровь в жилах и с пушечным грохотом трескалась бесснежная земля. Вспоминал беспощадный зной, от которого нигде невозможно было найти укрытие (на маршах-бросках солдаты падали от солнечных и тепловых ударов) и думал: «Действительно, за что же любить такую степь?»