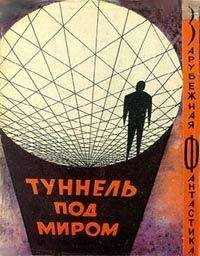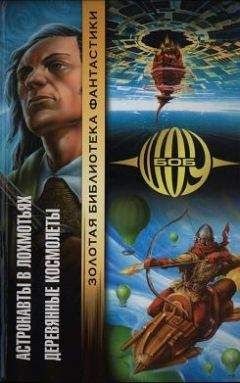Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
Все знают, что жена Айгулиса ушла с другим, и это как бы определяет их отношение к нему. Айгулис ест, ни на кого не обращая внимания. Но никто не уплетает с такой жадностью, как Дровокол. Он первый в работе, первый в разговоре, первый и здесь, в еде. Там, где трудится Дровокол, другим делать нечего. Его язык прямо-таки вязнет в трясине слов. В его речи оживают все слова, какие он когда-либо слышал. Это не столько говор живого человека, сколько треск какой-то без умолку тарахтящей машины, заглушающей стук лопат, удары топора и молота. Нет такого русского слова, которое он не произнес бы по-литовски, и нет такого литовского слова, которое он не произнес бы по-русски. Там, где трудится Дровокол, Криступас не может работать — перепонки лопаются. Он жалеет своего доброго и трудолюбивого племянника. «Это руками таких, как ты, — не раз говорил он ему, показывая на здания поместья, — и эти хоромы построены, и этот овин, в котором твоих прадедов крепостных до смерти секли».
Нет равного Дровоколу в работе, но нет равного и в сквернословии. «Дровокол!» — презрительно шипит кто-то. «Дровокол, — с тоской произносит Криступас. — Придумай ему самую тяжелую работу — все сделает!» Дровокол — это жалкая тень Криступаса: не щадя себя, и он в юности катал камни, таскал бревна… «Теперь другие времена, Даукинтис», — сказал бы Юодка. «Да я и сам знаю, винокур», — отрезал бы Криступас.
Юодке очень не нравится, когда его так называют.
Мужчины продолжают закусывать — пухленькая, тепленькая ручка Айгулиса, твердая рука Юодки, тихая, осторожно отщипывающая хлеб — Рудавичюса, щедрая, кормящая своего ребенка — Криступаса и еще чья-то проворная, почти незаметная, пытающаяся схватить самый лакомый кусок. И глаза. Чьи-то зоркие, наблюдающие за всеми ими глаза…
Уже смеркалось. Здесь тепло и уютно. Огонь освещает их лица, слышно, как в углу устраивается на ночь старик Дарбенас. Может, и Рудавичюс заночует, порой здесь коротает ночь и Криступас…
— На, Юзук, — Криступас протягивает сыну кусок скиландиса. Слово «Юзук» для мальчика, как удар по голому заду. Он чувствует себя мужчиной — сидит с мужчинами и ведет себя, как они: предложи они ему выпить — выпил бы…
— Бери, бери, чего стесняешься? — говорит Рудавичюс.
— Я этого ребенка никак понять не могу, — начинает разговор Криступас, — позовешь — не откликнется, краснеет, ежится, словно собственного отца стыдится.
Пот прошибает Юзукаса.
— Нехорошо, сынок, — мотает головой Рудавичюс. — Отца надобно любить. Отец только один. Никто тебя не будет любить так, как отец.
— Я его на летчика выучу, — хвастается Даукинтис.
Рудавичюс хмурится: плохо учатся его дочери. Но и Юзукасу летчиком не быть: он любит рисовать, запоем читает книги… Покуда он и сам не знает, кем будет, но когда-нибудь они еще вспомнят этого мальчика, сидевшего с ними в котельной на печи, и уже теперь отсветы ждущей его славы освещают их лица, играют на стенах, точно пламя, вырвавшееся из огромного горнила. Он видит их как бы из далекого будущего, смотрит на них, стараясь запомнить все их черты. Горло сжимают спазмы волнения. Да, да, когда-нибудь они его вспомнят, поймут, кто сидел с ними, — ну и что, что сейчас его почти никто не замечает.
— Ты слишком высоко летаешь, Даукинтис, — говорит Рудавичюс. — Лучше бы под ноги смотрел.
— А у меня под ногами то, что и у всех, — яма, — говорит Криступас.
И впрямь я высоко летаю, думает он. Единственная моя надежда — этот ребенок. И я все спрашиваю себя, что его ждет, кем он будет. И тревога закрадывается в душу, что он такой тихий, всех сторонится, только смотрит, наблюдает, слушает…
Привыкший всюду первенствовать, больше всего в жизни ценивший настойчивость, Криступас никак не может согласиться с такими качествами сына, да еще признать их достоинствами. Он хотел бы его видеть другим, таким, чтобы каждый его жест, каждое движение кричало на весь мир: это точно, я буду летчиком.
Юзукас уже встречал в жизни таких летчиков, которые обожгли свои крылышки. Разве его отец не один из них — обжегшихся и разочаровавшихся? Предчувствие подсказывает ему, что теперь здесь требуется что-то другое и в первую голову — чтобы слова не расходились с делом, поскольку пока что он слышит от отца только пьяное бормотание о его глупых мечтах… Он хочет жить чем-то таким, что отличалось бы постоянством и смыслом. Уже ясно, куда завело отца его легкомыслие. Юзукас жил так, словно знал, что на свете есть что-то самое важное, оно важнее того, что ценят и чем живут взрослые.
Он трудолюбив, но хозяйственные работы не привлекают его. Не последний он среди своих одногодков, но и не первый. В жилах такого ребенка бьется гордость, может, даже бо́льшая, чем нужно. Да, он будет, думает он о себе в третьем лице, будет ученым или поэтом. Кем-то будет, и в этом нет сомнения.
Жизнь, текущая по жилам рода Даукинтисов, уже иссякла, исчерпала себя. Она должна хлынуть либо с еще большей силой, либо… совсем угаснуть. Жалость и стыд вызывает у Юзукаса жизнь отца. А что такое его дядья — Казимерас, Константас? Все время они пятились назад, но пятились горделиво, балагуря и зубоскаля; пятились, пока не очутились у того предела, где скопилось все, что привело и к бессмысленному бунту Криступаса, — оскорбленная гордыня, уничижение, коварство, угрызения совести. Хватит балагурить, хватит размахивать руками, хватит, хватит! — кричит беззвучно ребенок. Хватит строить из себя того, кем ты не являешься. Кто-нибудь должен воспарить и выпрямиться во весь рост. Даруй этому мальчику лисью хитрость дяди Казимераса, пристальный взгляд Константаса, пагубную, праздничную доброту отца, и то бы ему чего-то не хватало: не хватало бы суровости, свойственной роду его матери, привязанности к старым обычаям, не хватало бы искусных рук дяди Повиласа, который вырезал из дерева какие-то злые, скрюченные фигурки, не хватало бы жадной хватки скальпеля, скрупулезности, чтобы никогда ни на йоту не уклониться от того, что однажды было тобой предначертано.
Уже теперь в глубине души Юзукас их презирает: слишком мало и ничтожно то, что они делают, чем живут. Никто для него здесь не может быть примером; уже теперь он чужой для них, он, который больше всех сросся с их родовым древом, но который от него и больше всех оторвался.
Может, он и впрямь будет летчиком, думает Рудавичюс, оглядывая мальчика. Если отец так считает, может, так оно и будет. Я не считаю, я знаю, говорит себе Даукинтис.
Юзукас отрывается от своих мыслей. О чем это они переговаривались шепотом? Почему так переглянулись? Что здесь произошло?
Айгулис уплетает скиландис, глядя на Юзукаса своими блестящими, на выкате, глазками. Взгляд у него какой-то колючий — словно его кто обидел. Рудавичюс что-то шепчет Айгулису, показывая на ребенка. Айгулис понятливо кивает. Бессвязно тараторит Дровокол, и голос у него, как всегда, такой, словно он от кого-то защищается. Айгулис продолжает уплетать скиландис.
— Смотри не подавись, — говорит ему Криступас. — Будет тогда у Дровокола работа. Но и колом он из тебя кусок не выбьет.
— Ты тоже… вот этим кусочком, — показывает тот на Юзукаса, — не подавись.
Старик Дарбенас наконец ложится. В окне светят крупные звезды, на стенах колышутся отсветы пламени. Тепло старику будет здесь.
— Я пошел, — Юодка вытирает обрывком газеты губы и руки. — И чтобы тихо у меня. Если что-нибудь услышу — всем влетит. Через полчаса чтоб ни одного здесь не осталось. Договорились?
Рудавичюс кивает, в круглых глазах Айгулиса вспыхивает насмешка, но их тут же обволакивает равнодушием и ленью.
— Думает, что мы дурачки, — говорит Айгулис.
— Ты о чем? — спрашивает Рудавичюс.
— Он всегда загадками говорит, — басит Криступас. — Но, я думаю, пора уже кончать это представление.
— И ты, Даукинтис, боишься? — спрашивает Айгулис.
— Я?! — удивляется Криступас. — А кого мне тут бояться? Тебя? Кому ты теперь, когда закроют завод, служить будешь?
— Знаем мы тебя: тебе ничего не стоит всех послать к черту, но ты, друг, поосторожнее.
Вот кого я больше всех не терплю, думает Криступас, людей, которые пугают всякими намеками.
— Одно счастье, — говорит Айгулис, — что у тебя много заступников.
Он нагибает голову и что-то лепит из хлебных крошек. Большая ответственность давит на плечи Айгулиса, он должен всюду быть, все видеть.
— Твое здоровье, — говорит Криступас, и мужчины только теперь замечают, что Айгулис в кожаных штанах и его правая рука в кармане.
— За меня можете не волноваться.
— Руку из кармана вытащи, — приказывает Криступас Айгулису.
Непонятную роль играет на спиртзаводе этот человек. Одни его сторонятся, другие к нему липнут, в глаза ласковы, а за глаза его последними словами поносят, хотя никто толком не знает, за что.