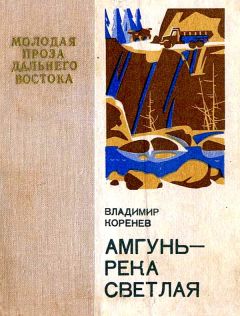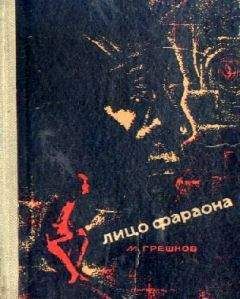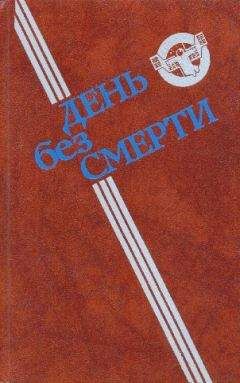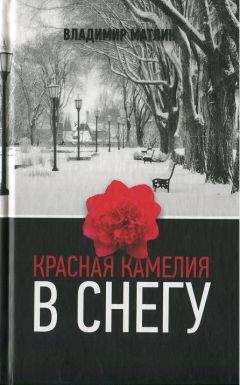Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
Михаил Костю почти не слушал. Он смотрел на родной двор. Вот сквер, в котором они «тырили» яблочки-дички. В центре его когда-то возвышалась скульптура горняка с отбойным молотком в ногах. Теперь «горняка» оттеснили в сторонку, и он стоял на пожухлой клумбе без молотка. За сквером, на месте комиссионного магазинчика бурлил когда-то рынок, куда Костик и Миша бегали за семечками и еще затем, чтобы поглазеть на одноногого гадальщика с морской свинкой, вытягивающей счастливые билетики. А здесь, в бывшем купеческом складе, до недавних пор работал магазин, в котором высокогорская пацанва покупала пистонки для наганов и воздушные шары. В обшарпанном двухэтажном доме по-прежнему «общага горянок» — девчат горного техникума…
Михаилу вдруг показалось, что свой двор видит он в последний раз, словно бы не мать, а он скоро должен умереть. И он рванулся к своему дому. «Нельзя мне уходить, — забилось у него в голове. — Мама еще жива, а я…» Возле подъезда он едва не сшиб Васильевну. Она осуждающе посмотрела на Михаила:
— Что же ты, Миша, а? — И кротко вздохнула: — Умерла мама.
И вроде бы свыкся он с мыслью, что мать вот-вот умрет, и вроде внутренне был готов к ее кончине, но все в нем содрогнулось, и какая-то обжигающая холодная боль объяла его, сжала. Ненавидя себя, Михаил скованно повернулся к подбежавшему Громскому и словно мороженым ртом выцедил:
— Говорил же, не надо…
Он готов был наброситься на друга с кулаками за то, что тот оторвал его от матери, но даже не смог поднять руки: такой был весь ватный и бессильный. Мама, мама!.. Он единственный родной ей человек на земле — а она умерла без него. И нет ему прощения!
6— Быстро ты обернулся, — Таська уважительно взяла у Михаила медицинскую справку. — Конечно, вы, молодежь, грамотные. Нинка, кто, говоришь, у тебя в похоронке? Родительница? Вот тебе справка, поезжай, успеешь еще до закрытия. И венки закажи, подешевле которые. Маму жалко-о, — с оканьем протянула она и приложила к губам платочек. — Ровно не хватает чего-о-о…
Соседки, сидевшие вдоль стен, горестно завздыхали.
— Жалко-о маму-у, ох как жалко-о. — Таська высморкалась в платочек и зло посмотрела на Михаила: — Я вся уревелась по матери. А сын хоть бы хны. Даже для приличия не всплакнет на людях.
— Ладно, сестра, хватит, — дотронулся до Таськиного плеча Михаил. — Что ты при людях шумишь?
— Стыд глаза ест? Все я да я. А ты даже смерть материнскую не встретил, по дружкам разбежался. Вон у Нинки на работе у баяниста тоже мать умерла. Дак его, говорят, на «скорой» увозили — так убивался по матери-то. А ты…
— Виноват я, виноват, только больше не заводись. Нехорошо. Мать тут рядом, а мы цапаемся.
Васильевна хотела прилепить свечечку на плахе в изголовье умершей, но размякший огарочек согнулся, и старушка задула его и положила на доску. Закурился тонюсенький дымок от свечки, и запахло топленым воском.
Соседки ушли. Таська принялась хлопотать на кухне. С матерью остались Михаил, зять Иван, Нина, да еще кот с собакой.
7…Когда пришла пора умирать, мать словно бы всплыла из мертвой пучины ближе к свету, но ни запах сына, ни его голос не услышала. Она не обиделась на него: надеялась, без дела он от нее никуда уйти не мог. Стало быть, из-за нее же что-нибудь и хлопочет. Экая напасть, сколь терпела, а тут враз приспичило. Истинно как родовые схватки — моченьки нет. Ноги тянет, нутрь тоже скукоживается, ровно в самую себя засасывает. Вот проваленство-то, не ко времени как. Хоть бы подошел кто, словечко сказал, может, отсрочилась бы смертушка, гостьюшка желанная да нечаянная. Что зазря кожилиться, силочку остатнюю попусту расходовать. Лучше приберечь ее для последнего слыха, для последнего взора, чтобы сыночек еще раз услышался и увиделся, чтобы попрощаться с ним на веки вечные.
Вверху Васильевна затарахтела водопроводным краном, загудели на разные голоса трубы… И вот стрельнул пастуший кнут, замычали в малиновом вечере буренки; встречая их, захлопали, заскрипели калитки. И она стала уходить к сумеречным стогам, где запозднился Михаил.
Он стоял возле последнего стога и ждал ее. Она все шла, шла к нему, а сын не приближался… Потом она очутилась дома. Ее принялись раздевать, и она от страха и стыда, что ее может увидеть Миша, начала уменьшаться и могла сделаться такой маленькой, что ее вообще бы не стало, но ей нестерпимо захотелось что-то вспомнить. Память давалась ей тяжело, и головная боль была невыносимой. Гулкие большие шорохи и трубные бубнящие голоса будто били по голове и выбивали память…
Она могла забыть себя навсегда, но близкий, родной запах сына не дал забыться ей насовсем…
Запахло воском, и зачадил овечечный дымок…
Большие женские руки подняли ее, младенца, вниз головой над купелью, окунули в воду и стали медленно вынимать из купели, на дне которой в прояснившемся водяном зеркале она увидела смутное, растерянное лицо и вспомнила, что это лицо ее сына Михаила, и улыбнулась, сворачиваясь калачиком в больших женских ладонях и устраиваясь поудобнее в материнском чреве.
Таким она и запомнила его: страдающим и растерянным, и ей захотелось родиться снова и помочь ему.
Старуха перестала дышать, когда было светло.
Хозяева от Фимки ждали знак, но бестолковая собачонка ни ночью ни днем ни разу не взвыла.
Старуха выдохнула из себя последний живой воздух, медленно застывая в околень-сне.
Когда старуха умирала, рядом с ней не было ее сына. И она умерла не до конца. В ней умерло все. Но она еще слышала. Мать хотела умереть при сыне. Вот этот живой слух и сбивал с толку кота Мурзика, и он не мог понять: мертва старуха или все еще жива.
Кот дотронулся лапой до покрывала и сдернул его с лица старухи.
Михаил вздрогнул, побледнел и подошел к матери, что-бы сбросить кота, но тот спрыгнул сам.
Михаил растерянно смотрел на мать. Ему показалось, что веко дернулось и мать посмотрела на него, на своего сына…
Моховы ушли. Михаил остался один с матерью…
Если бы время повернуть вспять! Неужели на свете есть такие, праведники, которые безгреховно и безошибочно прожили жизнь? Вот он только и делал, что ошибался и запоздало каялся. Только сейчас, когда не стало матери, он ощутил настоящую пустоту в душе. Жила мать — вроде так и надо. Все надеялся успеть вызволить ее из сиротства. Но время оказалось гораздо быстрее, чем он думал. Не успел. Как меж двух огней метался. И семью хотел сохранить, и мать. Хотел как лучше — все мукой мученической обернулось. Отчего так? Если бы не болела Ирина… А думать нечего было. Война войной, но и сам хорош: отшатнулся от матери. Еще как виноват! Разве бы теперь при нынешнем дозревшем разуме оставил бы мать!
Мать прежде всего.
Он даже не мог подумать, что будет так жестоко мучиться после ее смерти. Кого же, кого потерял он? Отчего так одиноко ему?
Осиротел… Почему осиротел? Родная кровь? Неискупленная вина, совесть?..
8Под утро Таська крикнула Михаилу:
— Хватит тебе сидеть. Отсидел свое. Поспи хоть часок — колготной день впереди.
Михаил не раздеваясь пристроился бочком к Ивану и сразу же уснул…
Вдоль стен, тихо переговариваясь между собой, сидели соседки. При появлении Михаила они замолчали, в их молчании, в любопытных и изучающих взглядах он почувствовал осуждение. И если бы не Костя, Михаил ощутил бы себя проклятым и лишним человеком рядом с матерью.
Взглянув в лицо матери, он вздрогнул: показалось, что глазницы были пусты.
Костя вздрогнул тоже.
— Медяки надо убрать.
И Михаил властно, точно он был хозяином в доме, обернулся к притихшей, показно смиренной Таське:
— Убери с глаз пятаки.
Однако ее опередила юркая Васильевна. Она, набожная и робкая на людях, будто ждала момента, чтобы совершить над усопшей свои действа. Точно фокусница, старушка выхватила из-под фартука открыточную иконку и положила ее на саван, где обозначались руки умершей. Затем она встряхнула коробком спичек и, запалив две былиночки-свечки, ловко прилепила их к изголовью на кромках гроба. И только потом сняла с глаз покойницы пятаки, положила их на подоконник и, чрезвычайно довольная, отступила назад, любуясь своей работой.
С какой-то умилительной святостью Васильевна поправила подушку под покойницей, белый в мелкий горошек платок домиком на ее голове, хотя и без того все было аккуратно. Молитвенно закатив глаза, она начала с присвистом нашептывать какую-то невнятницу и, клюнув носом в лоб усопшей, села на свое место. В изголовье гроба, точно в почетном карауле, в траурной водолазке застыл Михаил.
Входили и выходили люди, многие знали Михаила, здоровались с ним, а он, неотрывно глядя на лицо матери, отвечал слабым кивком головы. Некоторые вставали напротив него, тоже подолгу смотрели на умершую, печально вздыхали: «Как живая лежит, будто спит», — и без всякой нужды перекладывали с места на место бумажные розочки в изголовье, тем самым давая понять, что они близко знали Анну Федоровну.