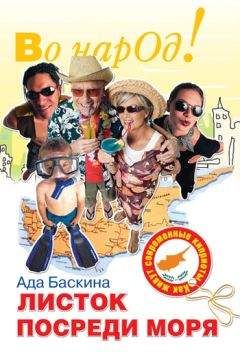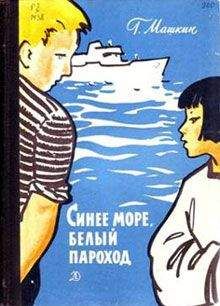Тамаз Годердзишвили - Гномики в табачном дыму
— Обветшал малость твой мир, — сказал он.
— Этот обветшалый мир породит новый город, мой Перула. Большие надежды у меня на эту выработку.
— Шутишь? Город в наших горах?!
— Вот, гляди! — Мы достигли места разлома. — Видишь, часть пласта опустилась, и не очень глубоко, по-моему. Если это так, бурав быстро пересечет рудоносную жилу.
Перула во все глаза осматривает хаотично переплетенные пласты пород, ничего особенного не говорящие его воображению. Не верилось, что к его родным горам проведут асфальтовые дороги, выстроят завод, дома, сначала одноэтажные, потом многоэтажные. А много домов вместе это ведь уже город.
— Город? В наших горах?!
Перула смотрит на меня с сомнением. Но я знал, уверен был, что его острый крестьянский ум уже рисовал городок с красивыми домами, садами, кинотеатрами, заводскими трубами и первыми жителями. Он прекрасно понимал, что мы не для забавы и не для развлечений приехали сюда, знал, что из мрака штолен извлечем свет будущего.
— Про меня не забудь, как станешь набирать рабочих на буровую.
— Что тебе за дело до буровой?
— До всего мне тут дело, сам хорошо знаешь! — таким тоном возразил Перула, что я понял, что́ будет, если не возьму его на одну из буровых подсобным. И все же решил подразнить:
— Нет, неразумно тратить твое драгоценное время на буровой.
Перула помрачнел было, но смекнул, что я подтруниваю, и, озираясь, будто тайну собирался доверить, тихо хихикнул:
— Нане пожалуюсь на тебя, понял!
Бывает минута, когда никому не принадлежишь, отключаешься от всего на свете: ничего не чувствуешь, не понимаешь, словно лишился слуха, лишился зрения. Закрываешь глаза и отчетливо представляешь, как работает мозг — универсальная машина, подбирающая ответ на поставленный вопрос. Ответ может быть, конечно, неверным, но когда речь идет об общем деле, мозг не вправе ошибаться! Поэтому я не слушаю больше Перулу, не вижу освещенных карбидкой обрушенных стен штольни. Я заглядываю в недра земли, в ее толщу, где сокрыто грядущее этих гор, лесов, рек и, кто сочтет, скольких людей. И ясно представляю, как все произойдет:
Забарабанит Перула ночью в дверь:
— Спишь, начальник!
— Что случилось?! — отзовусь торопливо, выбираясь из спального мешка.
Перула войдет и высыплет на стол сверкающие куски руды.
— Во, гляди, настоящее золото!
У меня заколотится сердце, и я вскричу, ликуя:
— Бурав в рудоносной зоне! — И, разом стихнув, спрошу: — Сколько метров прошли?
Перула расскажет, сколько они пробурили, сколько ночей не спали тайком от меня, чтобы успеть к приезду комиссии, и много насочинит, вороша образцы и восклицая: «Город в наших горах, город!»
Поднятый нами шум перебудит спящих людей, все сбегутся в мою комнату, радостно поздравят, начальник партии крепко пожмет руку. Позже всех зайдет Нана. Позже, потому что смущается, потому что постесняется при других бурно выразить свою радость и повиснуть на шее. А Перула деликатно выпроводит всех, уйдет и сам. Нана присядет к столу шепча:
— Какое счастье! Как здорово!
Я улыбнусь, не сводя глаз с руды, радость бьет во мне через край. А что еще может радовать больше этого?!
Нана выказывает усердие. Она хочет ознакомиться со строением месторождения. И вот опять спозаранку маячит перед моим окном.
— Завтракала?
— Нет.
— Пошли.
— Не хочу.
Насильно тащу ее в столовую. Она ест не торопясь, с аппетитом. Потом я беру ее за руку и веду по склону горы Саджогиа. Саджогиа самая высокая вершина, с которой можно обозреть все интересующие нас места.
— Не устала?
— Нет.
— Как устанешь, скажи.
— Ладно.
Давно не приходил я сюда, но ясно помню эту смешно закрученную тропинку. У подножия Саджогиа зеленеет полянка в желтых и голубых цветах. Люблю отдыхать на ней. Разлягусь на высокой шелковистой траве и думаю. Здесь на этой райской полянке, как я окрестил ее, меня всегда донимает мысль о том, как мал человек. Я представляю себе огромный земной шар, до того огромный, что самая высокая горная вершина не нарушает его округлости, так заметна ли на ней Саджогиа? Но Саджогиа по сравнению с моей полянкой — необозримая громада. Эту крохотную полянку и не заметить на земных просторах, а я незримая точка на ней. До чего же все-таки мал человек! И никто на свете не ведает, где я, не видит меня, затерянного среди этих гор. Это почему-то повергает меня в печаль.
Грустно бывает мне и тогда, когда покидаю какое-либо место, где оказался впервые и куда вряд ли попаду еще раз. Поэтому всегда стараюсь запомнить там что-нибудь приметное.
На райской полянке мне запомнился валун, от которого я сколол кусок. И знаю, стоит мне снова увидеть его, как слезы увлажнят глаза, а к горлу подкатит ком.
Вот и он, мой валун с отколотым боком. Нана что-то воркует на полянке о цветах, о красоте природы. Всю дорогу о чем-то щебетала, но сознание мое вскользь воспринимало лишь обрывки фраз.
— Нана, видишь, какая тишина, — говорю, чтобы остановить ее.
— Видеть тишину?! — Она смеется. — Я слышу ее, а не вижу.
— Это не важно.
— А что вообще важно?!
— Да все, все и вся, каждый звук, каждое слово, малейшее дуновение ветра или движение лица, но не это сейчас главное…
— Слушаю тебя.
— Не слушаешь!
— Клянусь мамой.
Нана потянулась ко мне, приласкалась.
— Как одиноки мы тут, совсем одни.
Слова ее почему-то удивили меня. Я всем существом чувствовал, что мы с Наной не одни тут. Не знаю где, за каким кустом или деревом, но где-то поблизости кто-то есть. Не знаю, кто он, какой из себя, но я всегда ощущаю его присутствие, и это странно ободряет меня.
— Что с тобой, ответь!
— Давай посидим, передохнем.
Нана прилегла на мягкой густой траве и положила голову на мои колени.
Ветер трепал ей подол платья, задирал его. Нана не смущалась. Глаза наши встретились, и сладостна была долгая откровенная беседа без слов. То, что сковывало нас, отлетело прочь, унеслось, помахав рукой. Но когда наши взгляды снова столкнулись, я увидел в глазах Наны страх.
— Нет! — воскликнула она испуганно. — Нет! Нет! — хотя и не сопротивлялась.
Потом Нана высвободилась из моих рук — они так легко подчинились ей, что я поразился. Несколько раз перевернувшись на траве, она присела и уткнулась лицом в колени.
— Чего ты плачешь? Что я тебе сделал плохого, почему сердишься?
— Не знаю…
— Почему же плачешь?
— Глупая, потому.
Мучается, хочет сказать что-то.
— Извини, прости. — Она громко всхлипывает.
— Хватит, перестань. Саджогиа ждет нас, не успеем засветло спуститься.
Нана встала, взяла меня за руку и подняла с места. Долго заглядывала в глаза, обвила мою шею и, прижавшись крепко-крепко, поцеловала. И как! Такой поцелуй не забывается.
— Все, конец нашим встречам.
— Конец? В самом деле?
— Клянусь. Пошли.
— Пошли.
На вершине Саджогиа Нана заметила кого-то, растянувшегося в высокой траве.
— Кто тут может быть?
— Пастух или Перула.
— Овец нигде не видно.
— Значит, Перула.
— Простил или все дуешься?
— Помолчи, пока не одолеем подъем, трудно говорить, устанешь.
— Простил? — не унимается Нана.
— Ч-ш-ш.
— Здорово выносит такую высоту, — удивляется Перула. — Дышать-то трудно.
— Здравствуй, Перула.
— Здорово, зовли девочка!
— Что значит «зовли»? — любопытствует Нана.
— Потом скажу, в другой раз.
Переводим дух и принимаемся за дело.
У Наны острый ум, быстро схватывает мои пояснения. Перула не отходит от нас. Что-то очень сдружился он с Наной, балагурит. Я не успеваю называть знакомые мне вершины, хребты и кряжи, реки и деревни. Перула чует, на что я укажу, и выкрикивает название. Берет Нану за руку, отводит в сторону, будто оттуда лучше видно, и показывает ей рукой.
— Мериси!
— Гаретке.
— Вараза! Вон, над Лоднарским ущельем! — и по-приятельски хлопает ее по плечу.
— Здорово понятливая, верно, паря? — кидает он мне, осклабившись до ушей, и подзывает к себе, усмехаясь, шепчет на ухо: «В конце дороги дождусь, чтоб не видели вас вместе вечером, и без того судачат».
— А мы втроем спустимся, — успокаиваю я его.
Нана с недоумением переводит взгляд с меня на Перулу.
— Ладно, топай с нами, шатун, — смеется она.
Перула хохочет, хватает Нану за руку и срывается, мчит по склону, бросая:
— Угурула, угурула![19]
— Тише, Перула, тише! — ору я.
— Сумасшедший! Тише! — кричит и Нана.
— Топай, топай, живей! — злит ее Перула, хохоча и пружиня на своих длинных ногах.
Солнце заходит. На фоне озаренного светом неба цепи гор будто тушью очерчены. В Сатевзиа зажигаются первые лампы, из-за занавесок вслед нам глядят глаза-блюдца.