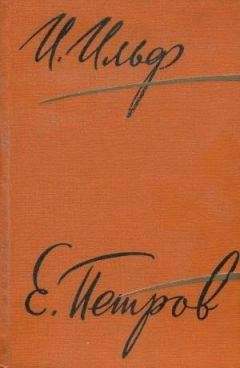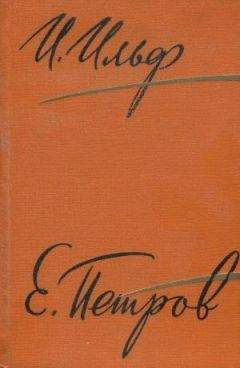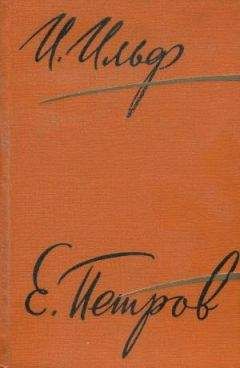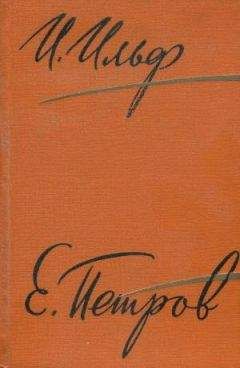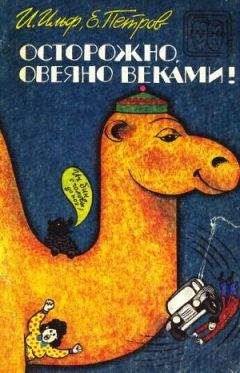Евгений Петров - Том 5. Рассказы, очерки, фельетоны
– Ура! – кричит она, помахивая флажком. – Ура!
– Ур-ра! – отвечают из колонн. – Смотрите, какая махонькая! А ничего – понимает.
На ребенка устремлены тысячи нежных взглядов. В этой маленькой девочке – краснощекой и веселенькой – демонстранты видят будущего человека, жизнь которого с начала до конца будет счастливой и безмятежной, того человека, для которого они подставляли себя под белогвардейские пули, для которого они переносят лишения и работают изо всех сил.
Для него, для будущего счастливого человека, строятся заводы и фабрики, марширует железная армия, жужжат пропеллеры. Для него со всех плакатов глядят слова:
– Пятилетка. Реконструкция. Социализм.
1929
День мадам Белополякиной*
Мадам Белополякина просыпается поздно, в первом часу. Муж давно уже на службе. В комнате отвратительно. На столе оставшаяся после вчерашнего ужина грязная посуда (мадам Белополякина поленилась ее вымыть и оставила до утра, когда придет домработница). На стульях разбросаны юбки, чулки, бюстгалтеры. Угол одеяла съехал с постели на пол. В раскрытой дверце зеркального шкафа отражается опухшее после сна лицо и гривка неестественно желтых стриженых волос. На затылке просвечивают корни волос природного цвета – черные.
– Ню-ура! – кричит мадам Белополякина. – Ню-ур!
– Иду-у!
И в комнате появляется домработница Нюра. На лице ее выражение напряженного страха и преданности.
– Подымите сторы, – говорит мадам Белополякина. – Да подождите, не топайте ногами, как лошадь. Сначала уберите посуду. Да не гремите вы подносом… Гос-споди, несчастье мое… Подождите, говорят вам! Поставьте посуду на место.
Нюра повинуется.
– На рынке были?
– Были, – отвечает Нюра.
– Принесите сдачу. Да погодите, господи, горе мое, куда вы уходите?.. Сначала посчитаем. Сколько я вам вчера дала? Пять рублей?
– Пять.
– Что же вы купили?
Нюра привычно загибает шершавый, как наждачная бумага, указательный палец. Начинается самое мучительное – утренние расчеты.
– Да погодите вы, гос-споди, не болбочите, как индюшка, ничего понять нельзя. Так, значит, мясо один рубль шестьдесят копеек, да двенадцать копеек лук – один рубль восемьдесят две копейки, да один рубль девяносто копеек масло – будет два рубля девяносто копеек. Что вы еще брали? Телятину? Телятина – девяносто? Значит, два девяносто да девяносто будет три рубля девяносто копеек. Да тридцать восемь копеек подсолнечное… Сколько же это будет? Три рубля девяносто копеек и тридцать восемь копеек – четыре рубля тридцать восемь копеек. Все?
– Все, – говорит Нюра и вздыхает. – Больше ничего не брали.
– Значит, – высчитывает мадам Белополякина, хмуря жирный лобик, – я вам дала пять рублей, а вы истратили четыре рубля тридцать восемь копеек. Значит, сдачи – пятьдесят восемь копеек. Давайте дены и и принесите мой ридикюль. Он там, под кофточкой… Что же вы стоите, как лошадь? Вам говорят!
Но Нюра не двигается с места. Она ошеломленно смотрит на стенку, оклеенную прекрасными розовыми обоями со следами раздавленных клопов.
– У меня гривенник сдачи, – произносит она, с трудом шевеля губами.
– Гос-споди! – восклицает мадам Белополякина. – У нее гривенник сдачи! Откуда же гривенник, когда должно быть пятьдесят восемь. Вы что покупали?..
Счеты возобновляются.
– Телятина – девяносто, – считает Белополякина, – да мясо рубль шестьдесят, итого – два девяносто. Да рубль девяносто масло. Будет четыре девяносто. Да тридцать восемь копеек подсолнечное – пять тридцать восемь. Да двенадцать копеек лук – пять сорок восемь… Погодите! Сколько я вам давала? Пять? А вы истратили пять сорок восемь… Как же вы могли истратить пять сорок восемь, если я вам дала пять? Ну, ладно. Потом сосчитаемся. Горе мое!.. Заберите грязную посуду и давайте чай!
И мадам Белополякина вытаскивает из-под одеяла пухлые волосатые ноги.
Трудно приходится интеллигентной женщине в наше суровое время.
Мадам Белополякина часто жалуется на жизнь. Она – женщина интеллигентная. Она – тонкий, нежный организм, который не выносит нынешних треволнений и лишений. Заграничных модных журналов не докупишься. В наших, советских – сплошной ужас: вместо модных платьев – фотографии каких-то заводов и выкройки красных косынок. Приходится брать журналы на прочет, снимать с рисунков копии и платить за каждую копию шесть гривен.
Муж мадам Белополякиной где-то служит, в каком-то научном учреждении. Зарабатывает мало – триста рублей. «Литературный кружок», где танцуют по пятницам и собираются безусловно «порядочные люди», хотят закрыть. Частников прижимают налогами. Половину знакомых выслали куда-то в Соловки. Жить становится труднее с каждым днем. Прислуга – дура, ничего не понимает. Прямо кошмар какой-то.
В шесть часов появляется муж, жадно обедает и заваливается спать.
– Разбуди меня, кошечка, в восемь, – просит он. – Нужно на заседание.
– Хорошо, котик, – говорит жена.
Муж очень любит мадам Белополякину. Однако ей он надоел. Она охотно ушла бы от него. Но к кому? Ведь настоящих людей нету. Хорошо было бы выйти замуж за иностранца, уехать за границу, подальше от этой нехорошей, грубой страны. Но иностранец с честными намерениями не является. Иностранцы тоже хитрые. Норовят воспользоваться случаем и бросить.
Вечером, выпроводив мужа, мадам Белополякина красит толстые потрескавшиеся губы, основательно пудрится и ждет гостей.
Отдохнуть душой можно в обществе научного сотрудника, молодого человека Бориса Боберова.
Борис Боберов – врун. Все, что он ни говорит, – все ложь. Врет он небрежно, неряшливо, путается. Но ему прощается все. Его ложь – святая ложь.
– Здравствуйте, дорогая, – говорит он нежным голосом, целуя мадам Белополякину в пульс и подымая брови. – А у меня новость!
– Не секрет? – кокетливо спрашивает Белополякина.
– Что вы! Разве от вас могут быть какие-нибудь секреты! Впрочем, чепуха! Мне прислали из-за границы посылку.
– Ах! Что вы говорите!
– Представьте себе. Два английских костюма шевиотовых, пуловер, дюжину дамских шелковых чулок и потом… это… патефон «Электрода» с шестьюдесятью самыми модными пластинками.
– Вы шутите! – стонет мадам Белополякина.
– Нет, ей-богу. Я даже сам удивился. Сегодня утром получаю повестку с таможни. В повестке все вещи и перечислены.
– Вероятно, огромная пошлина!
– Пустяки! Рубля два-три. Два шестьдесят пять! Но я решил не брать.
– Почему же, почему?!
– Лень, знаете. Ехать куда-то в таможню. Волноваться. К чему?
– Это безумие! – кричит мадам Белополякина. – Да я бы, я… Нет, вы серьезно?
– Вполне. Но стоит ли об этом говорить. Ну посылка, ну патефон… Подумаешь!
Мадам Белополякина долго не может успокоиться.
Боберов напевает:
У нас, на Кубе
Ти-ри-рлм, ти-рл-рим…
Ах, Куба! Ах, Гаити, Таити, Коломбо, Валенсия! Мадам Белополякина сейчас же, на месте, готова дать палец на отсечение, чтобы побывать под этими пальмами, увидеть это море и потанцевать чарльстон при свете Южного Креста.
– Мне предлагают командировку в Париж, – говорит Боберов, зевая, – на восемь месяцев.
– Да что вы говорите! Не может быть!
– Ей-богу. На семь месяцев. Пятьсот долларов подъемных и по тысяче каждый месяц.
– Когда же?
– Да хоть завтра. Паспорт уже готов. А с визой чепуха – Константин Федорович позвонит по телефону Эрбету… В общем, все это чепуха!..
– Голубчик… Боберов… Но ведь это… это… сон, волшебный сон! Боже! Ведь вы счастливец!
– Ну, что вы, – морщится Боберов, – я хочу отказаться.
– Вы не сделаете этого! – кричит Белополякина. – Ведь подумайте! Ведь Париж! Понимаете, Париж! Гос-споди! Берлин! Заграница!
– Ну, Париж, ну, Берлин. Я не спорю, в такой поездке есть своеобразная прелесть. Но подумайте, дорогая, какие хлопоты! Носильщики! Такси! Гостиницы! Бр-р-р. При одной этой мысли у меня волосы встают дыбом.
Мадам Белополякина не находит слов.
– Да, совсем было забыл! – говорит Боберов. – Прямо умора. Коммерческий атташе одного знакомого посольства уезжает в годовой отпуск и предлагает мне на это время свой автомобиль, совершенна новый «ролс-ройс». Да я отказался.
– Гаража нет? – спрашивает Белополякина, тяжело дыша.
– Да нет. Гараж есть. И шофер есть. Но к чему мне автомобиль?
– Как к чему? А ездить!
– Э, дорогая! Какая это езда! Бензин воняет, трясет…
Ночью в постели мадам Белополякина грызет мужа. За бедность. За неумение устраиваться. За все.