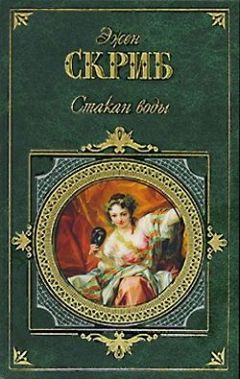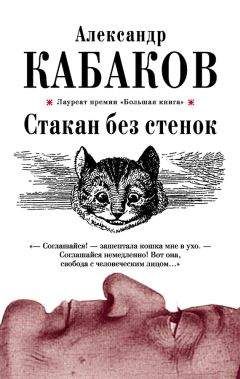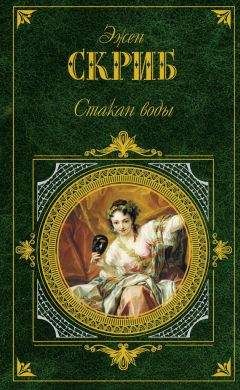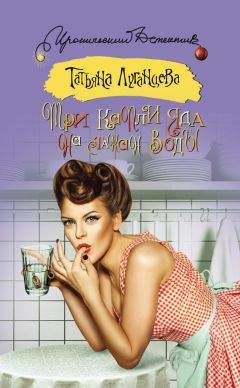Евгений Суворов - Соседи
— Людям не угодишь.
— Иван Захарович, неужели и в самом деле не жалко денег? Неужели душа не болит и сердце не ноет?
— Я же сказал, нисколько, — и добавил: — Марья с ягод идет. — В его голосе прозвучала едва уловимая тревога. Анна Афанасьевна — смелейшая женщина в Бабагае — и то немного испугалась, когда Иван сообщил об этом.
— Где она? — спросила Дубровина, поднимаясь из-за стола. — Хочу посмотреть на Марью.
— А зачем на нее смотреть? Ходит, как все люди, на двух ногах.
Наверное, в десятый раз Анна Афанасьевна оглядела бедную обстановку в избе, подивилась, как так можно жить в наше время — с деревянными гвоздями в стенах! — и сказала, оглядываясь на окно, выходившее на берег Индона:
— Честное слово, Иван Захарович, как посмотрю на тебя, о Марье подумаю, и меня от чего-то страх берет… Особенно когда в избу зайду…
— Это, Анна Афанасьевна, с непривычки. Мне в чужих домах тоже не по себе делается…
Иван сидел с хмурым лицом, чуть-чуть согнувшись, и смотрел только перед собой; может, обиделся на Анну Афанасьевну, что плохо про его дом сказала, а может, на себя за что-нибудь? Ивана сразу не разгадаешь…
— Мне все время кажется, Иван Захарович, что вы тут не в свое удовольствие живете, не красотой любуетесь, а добровольную каторгу в лесу отбываете… Как будто провинились и сами не знаете перед кем?! Не обижайся, Иван Захарович, я ведь правильно сказала.
Иван медленно отклонился от стола и, не меняя выражения лица, ответил:
— Я не обижаюсь…
Анна Афанасьевна стала смотреть в окно, но нигде Марьи не видела.
— Да где она, Иван Захарович?
Иван засмеялся.
— А ты ее не увидишь!
— Почему?
— Она по краю леса идет — за деревьями! Там по болотцу — дорожка.
— Да зачем ей идти по воде, когда на поляне сухо и дорожек сколько хочешь?!
— Такой характер, — как-то уж очень загадочно ответил Иван, оставаясь сидеть за столом.
Анна Афанасьевна стала ждать, когда Марья перед домом выйдет на поляну. Но сколько она ни стояла у окна, Марья ни разу так и не промелькнула за деревьями. И на поляне не появлялась.
— Она что, людей боится? — не отходя от окна, спросила Дубровина.
Иван не торопясь вылез из-за стола, походил по избе, как будто что-то искал и не мог найти, сел около плиты на широкую сосновую чурку и с какой-то ненужной веселостью сказал:
— Марья не хочет видеть ни своих, ни чужих! Издалека еще посмотрит, когда идет кто-то или едет… Она, считай, всех видит, а ее — никто. Что правда, то правда, прятаться она умеет: шагнет за куст или за дерево, присядет в траве или за колодиной, — и ни за что не найдешь! В лесу будешь звать — не отзовется!
— Что ей люди плохого сделали? Вот ты мне объясни, Иван Захарович?
Иван подумал с минуту и ответил:
— Этого и сама Марья не знает…
— Спрашивал у нее?
— А как же! Из-за этого и ругаемся… Она и в молодости была неразговорчивой, — как будто защищая Марью, сказал Иван, — а за последние двадцать лет совсем отвыкла от людей! Марье интересней слушать не нас с тобой, Анна Афанасьевна, а как птицы поют, как лес шумит… Я же говорю: ей в лесу хорошо, а мне — с людьми надо побыть.
Иван знал: Марья давно пришла, сидит около бани и пригоршнями перебирает ягоды. Если ей покажется, что люди не скоро уедут, она еще раз за ягодами сходит или в Семеновом сосняке рыжиков насобирает.
Корзина с брусникой стояла на траве около бани, а Марьи нигде не было.
Иван залез на широкий столб от забора и стал смотреть в лес, в котором, сделав полукруг, исчезала дорога в Шангину.
Анна Афанасьевна не представляла, как в таком густом сосняке можно увидеть Марью?
От ворот она прошла немного по дороге, густо заросшей муравой и бурьяном; старые колеи едва угадывались в траве… Лесные цветы росли сразу же за оградой, здесь их никто не рвал. День солнечный, изредка подует легкий ветерок, и тогда протяжный шум леса смешивается с настойчивым криком воронья, недовольного появлением людей, с одиноким и пронзительным криком ястреба. Слышатся еще какие-то неразличимые голоса, — может, из деревни, а может, из глубины леса… Отражение на той стороне в Индоне крутого берега с лесом, в несколько этажей поваленном на Марьиных буграх, кажется ей бездонной пропастью, из которой Ивану с Марьей никогда не выбраться…
Рассказы
Три дня в деревне
По деревенской дороге идут двое.
Дорога из тропинок взбирается на гору, падает вниз, и деревня Артуха, куда идут двое, только покажется крышами домов и снова исчезает.
Перед деревней увидели старую, на изгнивших столбах арку, на которой болтались остатки еловых веток, кусочек когда-то выкрашенной в красный цвет рамки удерживался на проволоке; вверху одного столба тесовые доски оборвались, в пустых ходах арки воробьи свили себе гнезда.
Из-за реки по бревенчатому настилу двигалось стадо коров, позади, в лесу, слышались неистовые крики, частые и резкие удары бича, казалось: пастухи кричат и хлопают бичами на одном месте. Наконец стадо вышло из лесу, подняло пыль, рев, деревня ожила и задвигалась. На улицу стали выбегать бабы и девки загонять коров.
Разноголосый шум, скрипы ворот, удары калиток смолкли, запахло парным молоком и пережеванной травой, сильней задымили летние печки и огни, разложенные на земле в оградах и у колодцев.
Уже недолго оставалось до темноты, и двое поспешили. Спустились в низину, разделявшую деревню. Здесь даже в сильную жару грязь не высыхала, и пройти можно было по прерывистой дорожке, прижимаясь к изгороди. Они перешли, переглянулись и рассмеялись, отчего — неизвестно. Может, оттого, что их коснулись волны теплого, но уже осеннего воздуха, чистый закат, голоса на реке…
Мягко ударяются в траву сосновые чурки, катятся на дорогу. Женщина и мальчик бросают пилить, приглядываются к двум незнакомым. Когда один из них — тот, что немного постарше и посветлее, спросил, где живет дядя Константин, женщина подошла ближе и сказала:
— А вы пришли! Дом с баней… Вы родня Константину?
Она вытерла ладонью нос, лоб и щеки, прибрала волосы, выбившиеся из-под белого тоненького платочка, и стала спрашивать дальше:
— Сашка, что ли… Я и подумала. А меня забыл?
— Тетка Марфа…
— Марфа, Марфа, — засмеялась она. — Помнишь. Ну иди, Константин в доме.
Дядя Константин, огромного роста, с крупными правильными чертами лица, с белыми подстриженными усами, в клетчатой, не по летам яркой рубашке, стоял посреди двора. Он бросил на груду свежих березовых щепок обрывок веревки, улыбнулся и пошел навстречу молодым людям.
— Здравствуй, племянник! Не слышно давно — забыл старика. Вдвоем учитесь? — и он протянул товарищу Александра широкую красную руку с плохо гнущимися пальцами. — На сколько приехали?
— Дня на три.
— Что так?
— Скоро занятия в институте.
— Да, у вас с сентября начинается… — помог оправдаться дядя племяннику. — Ну, в избу пошли, там поговорим. Где ж я выпить найду, — ломал голову Константин, закрывая за всеми дверь. — Уборочная — запретили. Спросите у Зойки: вы в гостях, вам она скорее продаст.
На вымытом, еще не просохшем крыльце магазина сидели несколько мужиков и вспоминали, как прошел у них день, говорили о незаконченном дне так, будто его уже не было, будто начался уже другой день…
Девушка, на вид ей можно было дать лет двадцать, домывала крыльцо. Она не смутилась, когда городские остановились, разглядывая ее, не сделала вид, что надо передохнуть и тем временем тоже оглядеть новых людей, Александр хотел заговорить с ней, — она ему показалась знакомой, — но девушка не намерена была вступать в переговоры, домыла крыльцо и ушла.
Зойка, сорокалетняя женщина, с черно-жгучими спрашивающими глазами. Она только чуть-чуть располнела за эти годы, одевается как на праздник, больше тридцати ей не дашь. Александра с Валерием встречает, вся зардевшись, жмет им руки через прилавок, спрашивает:
— Когда приехали?
Наклонившись полной грудью к прилавку, немного простуженным приятным голосом сказала:
— Я знаю, зачем пришли. Не могли раньше, — только что последнюю отдала.
Она собралась домой — жила рядом, но теперь не торопилась. Зойке все интересно: что они будут говорить, зачем приехали, надолго ли, где живут сейчас. Зойка раньше знала, конечно, но теперь — забыла.
Александр ответил на все Зойкины вопросы, оглядел магазин и спросил:
— Чья это, мы шли, крыльцо мыла?
Зойка, поочередно разглядывая молодых людей, как будто оценивая, который из них подойдет в зятья, все тем же приятным голосом сказала:
— Тася — сестры моей дочка! Забыл? Ну, конечно, маленькая была.
— Сколько ей?
— Семнадцатый.