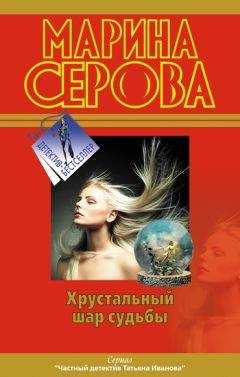Николай Иванов - Разговор с незнакомкой
Из школы пришлось уйти. Взяв документы, Дуська-Людмила и не помышляла никуда их нести, как ни уговаривала старая учительница математики, отмечая ее серьезные способности к учебе.
Расставшись со школой, Дуська-Людмила замкнулась в себе, ожесточилась, но в самом дальнем уголке ее души все еще теплилась надежда на будущую счастливую жизнь со своим домом, семьей, с маленьким мальчишкой, которого она давно уже назвала Игорем.
В семье Блинковых никогда не было особой дружбы между детьми. Все они угодили в мать угрюмыми, неразговорчивыми. Говорили друг с другом в основном только по необходимости, по делу. Дуську-Людмилу угнетала домашняя обстановка, и при первой возможности, едва дождавшись отпуска, она уезжала из дома — чаще всего к крестной, как называла она свою тетку, сестру матери. Одинокая тетка тепло встречала племянницу, радовалась ей, как собственной дочери. Так и наладилась Дуська-Людмила к ней, почти каждый отпуск навещала. Помогала по хозяйству, стряпала, а когда тетка уходила на работу, бегала загорать на местный пляж — на берег небольшой бурливой речушки.
Когда проходил отпуск и Дуська-Людмила возвращалась домой, к приятным воспоминаниям об отдыхе, о теткином уюте примешивалось чувство досады, недовольства собой от того, что снова не устояла, завязала знакомство с каким-то командированным и проводила с ним встречи где попало — на пляже, в доме приезжих, в лесу. Но и мимолетные такие встречи, которые были теперь нередкими, стали быстрее забываться ею. В душе она по-прежнему тянулась к домашнему очагу, к семье.
Обитатели барака постепенно разъезжались, получали новые квартиры. Блинковым выделили «за выселением» еще одну комнату, расположенную возле общей кухни, длинную и неудобную. В нее-то и переселилась теперь Дуська-Людмила. Старая Агафья больше всего переживала за свою младшую, чувствовала материнским сердцем все ее душевные передряги. Не видела она добра и в том, что Дуська-Людмила, подцепив где-то прямо на улице, привела в дом выпивоху-шофера, как показалось Агафье, прирожденного грязнулю и неряху. Однако особого ропота Агафья не выказала, решив, что все само собой образуется — натворит что-нибудь незваный зять, Дуська и сама погонит его со двора. Одну лишь фразу бросила она дочери незлобиво, улучив момент: «Смотри, каб не обворовал он тебя, а то ведь бог весть отколь свалился он на нашу голову…»
— Ничо, мать, ничо, — спокойно ответила Дуська-Людмила, не оборачиваясь, настирывая в буром щелочном растворе замасленную робу. — И мы не лыком шиты, мне ж работа его известна, никуда не денется, если чо…
И наступила для Дуськи-Людмилы пора новой, трудной и беспокойной, но наполненной жизни. Ей стало казаться, что вот только теперь и зажила она по-настоящему, хотя и летела каждый день домой с одной постоянной мыслью: «Придет ли сегодня?» Конечно, страдала она от того, что почти ежедневно он был пьян, и от иссушающей ревности своей непонятно к чему, от какого-то пронзительного, чуть ли не материнского беспокойства за этого нового в ее жизни человека, отлученного от своей семьи, но это не уменьшало ее надежд на него и на то, что все еще может сложиться так, как хочет она. Она понимала, что нелегкий понесла крест, тог самый, который несла до нее другая, та, что не побоялась даже одиночества, лишь бы избавиться от такого мужа. Но это вселяло в нее еще большую надежду. «Пусть его лишили крова, семьи, детей… — думала она. — Пусть. Лишь бы он навсегда остался со мной, все наладится. Уж я возьмусь за него, сделаю человеком. И пить отучу!» В такие минуты Дуська-Людмила чувствовала небывалую уверенность в себе и прилив сил. Мысли ее далеко опережали настоящее и уносились вперед. Она видела его, этого красивого внешностью, но почти пропащего человека, своим верным спутником и клялась себе не уступать его ни за что и никому. По ночам ей снилась их будущая жизнь, размеренная, спокойная, полная достатка. Всю рабочую смену она прикидывала, что бы такое придумать еще, чем и как накормить его получше, чем угодить ему, чтобы намертво привязать к своему теплу и уюту. С работы же она теперь не шла, а летела точно на крыльях. И лишь подходя к бараку, притормаживала, замедляя шаг, плыла мимо соседей степенно и важно, снова, как в девчоночьи годы, напевая под нос грудным, чуть простуженным голосом:
Как на фабрике была па-арочка…
Веселый барачный народ делал вид, что не замечает ее преображения, но по утрам, стоило ей хлопнуть дверью, уходя на работу, соседки собирались на кухне и смачно обсуждали, как она накануне стирала на кухонной лавке на виду у всех, как терла ворот рубахи с прижитого ей мужика, как потом вешала эту рубаху на веревку, любовно расправляя складки. Соседки незаметно для себя втянулись, стали жить всем этим, гадая на все лады, чем же все может кончиться.
Дуська-Людмила знала обо всех пересудах, но старалась их не замечать. «Плевать, пусть побесятся…» — рассуждала она про себя и с вызовом принималась на глазах у всех жарить, парить, стирать, таскать на помойку конные ведра с грязной водой, намывая до лимонной желтизны старые скрипучие половицы в своей комнате. Она еще не решалась считать мужем этого человека, так много занявшего места теперь в ее жизни, но уже смело называла его «своим мужиком». «Мужика жду… — как бы исподволь говорила она, стоя на крыльце. — Вот мужик придет, и тогда…»
Каждый раз, поджидая его из рейса, Дуська-Людмила молила, чтобы хоть раз порадовал он ее душу и пришел трезвым. Она никогда не засыпала, не дождавшись его, прислушивалась к гулкой ночной тишине, ходя по комнате, воображала, что он сидит в прежнем своем доме с женой и смеется над глупой Дуськой-Людмилой, пригревшей и обласкавшей его. Но он возвращался, и постепенно ожидания эти переставали быть тревожными и становились щемящими душу предвестниками радости. «Значит, он вправду говорил, что любит теперь только меня одну… — сердце Дуськи-Людмилы сладко замирало. — Значит, я одна нужна ему теперь…»
В бараке за несколько месяцев привыкли к новому жильцу, понемногу поутихли все пересуды. Сам жилец тоже постепенно успел приобвыкнуть и, познакомившись с соседями, стал захаживать к ним в гости, ходить за компанию с мужиками в баню и, напарившись там, выпивать с ними по-свойски пива, нещадно колотя, как и они, о скамейку тощую воблу.
Дуська-Людмила стала спокойной, уравновешенной. Не было в ней теперь прежнего страха, что он покинет ее, вернется к своей жене. И время от времени она стала с ним нет-нет да и заводить разговоры об оформлении их отношений. Она принимала в расчет, что у нее с ним стала налаживаться жизнь, и что в бараке он «ко двору пришелся», подружившись с соседями, и выпивать стал меньше, но и не забывала о том, что не разведен он с женой-то и алименты на ребенка не оформлены — очень уж ей хотелось, чтобы все было по закону.
— Ладно, ладно, успеем… — успокаивал он ее. — Все ведь теперь в наших руках с тобой.
А иногда под настроение он начинал строить конкретные планы и уж срок назначал, когда на развод подавать пойдет.
— Вот получку получу и пойду в суд… — обещал он.
Но подходил день получки, и он точно забывал о своем решении. Она же, понимая, что на горло мужику наступать не годится, тоже как бы забывала обо всем и до времени помалкивала. И столько в ней было радости в эту пору, так она светилась вся и была переполнена счастьем, что, казалось, его хватило бы на всех окружающих. И соседки не могли не заразиться ее настроением, ее спокойной, сосредоточенной радостью. Увидев с крыльца шагающего через двор человека в выцветшем от частой стирки комбинезоне, они, стараясь опередить друг дружку, стучали Дуське-Людмиле в окно, оживленно сообщая: «Встречай, давай… твой идет!» И это «твой» отраднее всего было ей слышать, и внутри у нее снова и снова что-то сжималось и замирало. Именно оно, это слово, определяло надежность и право на счастье, на него, грузно поднимающегося по ступеням навстречу ей.
— Ну, чо еле плетешься-то? — грубовато спрашивала она, а сама, зардевшись, тихо таяла. Затем вразвалку шла впереди него, приносила с кухни давно нагретый чайник и, подставив на табуретку эмалированный таз, по-хозяйски сливала воду на его широкие плечи, шею и спину, озорно похлопывая и поглаживая блестящую от воды кожу. Затем сама вытирала вафельным полотенцем эту спину и грудь, заглядывая в глаза ему и причмокивая языком от сосредоточенности. А он, чувствуя себя неловко от такого избытка внимания и заботы, отмахивался от нее, притворно ворчал, вырывая полотенце, и тогда она с неподдельной строгостью одергивала его, била не больно по рукам.
…Все шло как будто бы хорошо. И вдруг Дуська-Людмила стала замечать в нем снова что-то такое, чего боялась первое время, — беспокойство, настороженный взгляд, поспешность во всем. Ей стало казаться, что и за столом сидит он иначе, и разговаривает с ней меньше, и к мужикам вроде реже стал заходить. Его беспокойство передавалось и ей. В голову опять лезли всякие мысли. И она старалась что-то изобрести, чтобы он стал прежним, а она обрела спокойствие, но не могла ничего придумать. А однажды, взглянув на него, лежащего на диване с прикрытыми глазами, она почти физически ощутила его отсутствие.