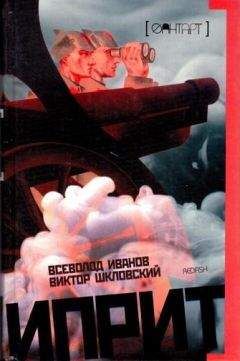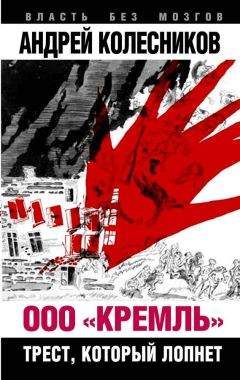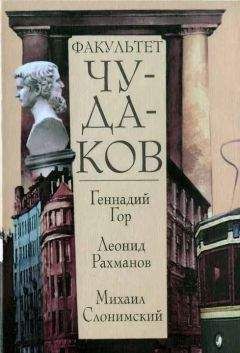Всеволод Иванов - Кремль. У
Пицкус и Лясных сообщили ему, что кружок собран, и что они достаточно подготовлены к тому, что им скажет Вавилов, и что оба они и слушали и агитировали, а Лясных даже предполагает для борцов бассейн такой устроить для плавающих внизу, в церковных подвалах. Он этим очень заинтересовал боксеров, но самого проекта Вавилова они им не сообщали. Он будет говорить с ними завтра, перед кулачным боем, но еще утром Пицкус обновится, сообщит, что Кремль побьет Мануфактуры, дабы подготовить почву. Он явно лгал, так как у него ложь не выходила, что отношение к Вавилову чудесное, и что ходят слухи, что ему вынесут благодарность, и если понадобилась такая ложь, то, значит, дело плохо.
Л. В. Овечкина, может быть, из-за фамилии своей возбуждающей жалость, или потому, что он со многими рвал в эти тяжелые для него дни, но она неотступно была при нем. Он думал про нее всякие гадости, пока не заснул, — он понимал, что она теперь ему подставит большую ножку — он не видел возможности спастись от нее. Он ее по-настоящему боялся. Он поискал водки, но не нашел и забылся только под утро.
Глава шестьдесят девятая
Агафья видела и понимала насмешку судьбы, что ей суждено судить людей за любовные увлечения, и потому ее так мучило и потому она так не спешила давать свое решение, хотя Надежда ей и сказала:
— Не на Шурку же мне надеяться! Вся надежда на тебя.
И было смешно, что она, имеющая такое великолепное имя, надеется на Агафью. Клавдия добавила, что Вавилов почти согласен принять деньги, те, которые вы ему обещали, и когда ей сказали, что никаких денег не обещано и даже, видимо, подумали, что Клавдия подослана для некоторых разговоров. Клавдия вела длинный и туманный разговор, весь смысл которого был тоже ясен; она думает и хочет разведать, не ходит ли Вавилов сюда ради Агафьи. Она была оптимистка и сразу поверила, что ее опасенья напрасны и что ей не надо сворачивать с выбранного пути. Она уже носила бутылочку с собой, дабы пить в присутствии Вавилова, и так как он выступал почти каждый день, то ей нетрудно было это осуществить.
Мы уже говорили, как женился Е. Рудавский; он женился на племяннице И. Лопты и получил за то, что женился на изнасилованной фабричными. Он ее вначале бил и упрекал за приданое, но затем полюбил, и так как приданое прожил в то время, когда отчаялся по поводу своей способности продаваться, то начал работать с тем, чтобы возвратить приданое. Прожить-то легко, а заработать десять тысяч дело трудное, он вернул И. Лопте пять тысяч и начал скапливать, чтобы вернуть другие, но не скопил, так как грянула революция. Лопта удивился, но деньги взял, его больше обрадовала любовь. Шла революция, и [Рудавский] страдал больше, что не может скопить деньги, но вот начался нэп, и только он скапливал было, как какой-нибудь налог, и деньги приходилось вносить. Наконец старуха его умерла, но он все-таки настолько примирился с мыслью вернуть приданое, что даже на похоронах ее сэкономил, а затем оказалось, что дом, который он завел в Москве, вовсе не надо держать, и ему скучно одному без старухи. Он жил раньше работником у И. Лопты, изредка приезжал и думал жениться на Агафье, скромной работнице. Но как только он продал дом, так и получилось, что он имеет пять тысяч рублей, и он собрался и поехал в Кремль.
Он остановился на квартире у Верки, которая много знала из жизни Кремля и которую не возмущало то, что Агафья владеет Кремлем, и ей казалось, что с того дня, как она прослушала рассказ актера, и с того дня, как Е. Дону бегал за Агафьей, [а та] ответила высокомерно, ей некогда слушать сказки, святой отец послал их участвовать в самой страшной сказке земли, и мы должны придумать ей счастливый конец. Ей подумалось, что Е. Дону, который относился к ней с такой нежностью, и любовью его к ней все любовались, — он переменил к ней отношение. Она грустила. Е. Рудавский, всегда останавливавшийся у нее, утешил ее, пытаясь ей сказать те слова, которые, по его мнению, ей не мешало бы выслушать; он не особенно торопился отнести эти деньги, так как не знал и не думал предполагать, что он будет делать теперь, двадцать лет собиравший эти десять тысяч, в Кремле, где теперь уже никто не помнит историю с изнасилованной женщиной. Ему было грустно, да и вообще жизнь закончена, он хотел начать ее снова, так как думал осчастливить Агафью, а теперь выяснилось, что Агафья вознеслась на неимоверную высоту.
Он вспомнил, как Лопта, смеясь, напомнил ему, как он внес пять тысяч. Какие странные времена были! Он шел, с гордостью прижимая к груди свои деньги. Откуда бы шум? Хрустят его кости…
Агафья была довольна, что так удачно разрешился спор между Надеждой и Клавдией. Надежда явно была довольна тем, что могла пожертвовать жизнью своих детей, но сохранить верность своему мужу, а Клавдия смеялась над ней и говорила, что глупостью своей она загубила только жизнь парня и что это не смелость, а только трусость. Она сказала, что пошлет парню адрес с тем, чтобы он пришел к ней, дабы она могла его утешить, — и она пожалела его волосы, которыми любовался весь Кремль. Агафья сказала, что это дело бога и что он избрал А. Сабанеева своей рукой — и вообще все дальше выяснится. Надежда, после слов Клавдии, подумала, почему она раньше не замечала любви А. Сабанеева и что муж, с которым она прожила много лет, едва ли достоин ее верности и того, чего она с ним перенесла. Она решила настаивать на том, чтобы он переехал в Кремль. Она искала ему заместителя, она беспокоилась.
Е. Рудавский шел и думал о своем сне, в котором он отрубил слону голову. Что бы это значило? Он отрубил голову слона вместе с клыками. Он пришел, позвал Лопту, тот вышел к нему заспанный. Он сел с ним за стол. Позвал Агафью, на которую посмотрел с нежностью, и сразу же решил, что она недоступна. Он выложил деньги и сказал:
— В 1917 году я уплатил тебе пять тысяч. Деньги, правда, пали, но все-таки не совсем; когда они падали, я ждал их возвышения и тогда хотел их полностью внести. — Он слегка врал, но он уж хотел собственного возвышения до конца. — Я теперь хотел их внести тебе до известной ценности, но вижу, что старость подходит и еще умру, а все так и будут думать, что я, Е. Рудавский, был способен жениться на испорченной ради денег. Я ее побил — и вот отдаю тебе пять тысяч.
И. Лопта посмотрел на него и на своего сына; тот кивнул ему головой, и И. Лопта сказал:
— Мы отказываемся от денег, они нам теперь не нужны, ты поздно пришел, работничек, возвращать мне деньги.
Они спросили Агафью, но та спросила, верующий ли он, и Е. Рудавский подумал и сказал, что скорее неверующий, но тут в разговор вмешался Е. Чаев, который сказал, что деньги надо принять и что хорошо бы, если Е. Рудавский вышел на минуту, пока длится совещание.
Е. Рудавский ушел. Е. Чаев сказал, что если Лопта считает себя святым человеком, то он должен принести жертву ради библии, — у него тряслись руки, и он видел возможность своего возвышения, [если] все деньги, которых так недоставало, будут внесены.
Агафья была против. Он на нее накричал; отвел ее в коридор и доказывал ей. Она заколебалась. Она никогда не видела его в таком азарте. Он заставил ее воззвать к благости всевышнего и уговорить Лопту. Она сказала просто, что в интересах общины она требует от него принятия денег. И. Лопта сказал кротко, что если община требует, то он соглашается. Она еще колебалась, но тогда Еварест открыл огромный сундук и бросил туда деньги, и сундук с чрезвычайно мелодичным звоном, похожим на звон колоколов Успенского собора, закрылся. Е. Чаев позвал Е. Рудавского, и Лопта сказал, вздыхая:
— Взял я твои деньги, работничек, взял. — И слезы были у него на глазах.
Е. Рудавский сидел еще долго, он чувствовал любовь к Агафье, а та радовалась, что «хоть этот-то не липнет». Она обращалась с ним очень ласково.
Глава семидесятая
[Вавилов] плохо чувствовал себя всю ночь. Он даже не умывался. Его друзья храпели. С. П. Мезенцев пришел подвыпивший и с деньгами. [Вавилов] думал, что он видел достаточно много, чтобы сообщить в ячейку, но видно, нужна и особая чуткость и особые люди, которые могли бы понять и рассортировать те сведения, которые он собрал. Кроме того, едва ли имеют значение эти сведения, это будет началом обычной склоки, которых он наблюдал немало. Он чувствовал с того момента, как прервался обычный его военный сон, что он сегодня будет побежден, что называется, на все лопатки. Он давно не брился, рыжие волосы отросли густо, он с презреньем сказал: «Рыжий», и хотя чувствовал, что сегодня день у него кончится трагически, он все-таки побрился и под обычную ругань ребят выбрил свою рыжую голову. Он одевался тщательно; ребята, точно нарочно, говорили о Колесникове, что он не пил целую неделю и, наверное, здорово закалился и вообще то, что его Вавилов пристроил в клуб, значительно улучшило его. Вор Мезенцев заявил: Возмутительно, что Вавилов за ним следит и хочет его уничтожить, но что сегодня после драки — у них будет с ним разговор. По жалостливым улыбкам Пицкуса и Лясных Вавилов понял, что друзья его колеблются и тоже не прочь запросить вознаграждения, особенно при ремонте клуба. Настроение его стало еще хуже. Подле клуба он встретил Клавдию, она сказала цинично, как всегда, похлебывая из бутылки, что Агафья, видимо, скоро даст Е. Чаеву отставку и тогда поле деятельности для него открыто. Ему стало стыдно, что он берет сведения от площадной девки и что, главное, не в силах победить к ней презрение. Обидно ей!.. Он старался увидеть в ней особую походку, разврат, но ничего не было. Ему стало еще хуже.