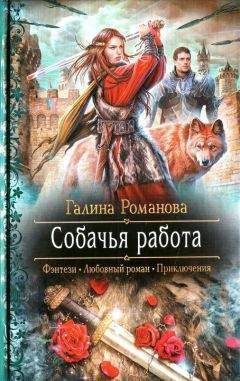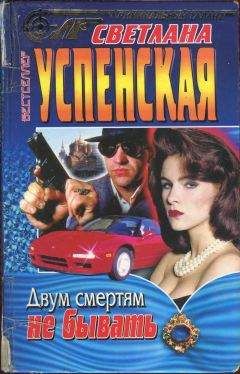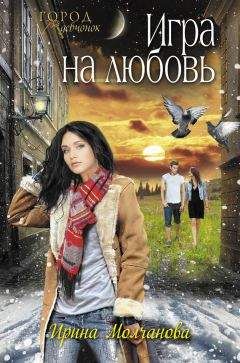Анатолий Димаров - Его семья
Яков сразу же поворачивает голову: он хочет убедиться, так ли это в действительности. Но Нины рядом уже нет. Исчезли и Олины тетради.
Поискав ее глазами, Горбатюк увидел Нину возле Веры Ивановны.
«Нет, Вера Ивановна не пошла бы на это. Да и Нина не отходила бы от меня».
Но что случилось с Ниной? Почему она так спокойна, так уверена в себе и… так равнодушна к нему?..
Яков задерживается возле школы, делая вид, что никак не может раскурить папиросу. Стоит до тех пор, пока из дверей не выходят Вера Ивановна и Нина.
— О, а мы думали, что вы удрали! — весело восклицает Вера Ивановна. — Вы проводите нас? — спрашивает она и берет Якова под руку.
Они идут по улице — посредине Вера Ивановна, а по бокам — Яков и Нина.
«Как чужие», — думает Яков, украдкой поглядывая на Нину, серьезную и чуть грустную. Или это тень от фонаря на ее лице?.. Разговаривают они только с Верой Ивановной, осторожно подбирая слова, чтобы не коснуться ненароком чего-либо общего для них.
Наступает минута, когда Вера Ивановна прощается, и они остаются вдвоем.
Идут по краям тротуара, словно им тесно рядом, и молчат. Молчание угнетает обоих, но и заговорить тоже нелегко.
— Как дети? — наконец выдавливает из себя Яков.
— Спасибо, хорошо, — коротко и отчужденно отвечает Нина.
— Оля здорова?
— Да, здорова.
— А Галочка?
— И Галочка тоже… Она теперь ходит в детский сад, — помолчав, прибавляет Нина.
— В детский сад?
— Да. Я ведь теперь учусь, вот и устроила ее…
Возле своего бывшего дома Яков останавливается.
— Будь здорова!
— Будь здоров! — эхом отзывается Нина.
Яков медленно шел по улице, все еще надеясь, что Нина не выдержит, позовет его. Но она молчала. Она стояла и смотрела, как он уходит, немножко сутулясь, и обиженно думала о том, что он даже не захотел посмотреть на дочерей.
XIII
Готовясь к встрече с Георгием Борисовичем Нанаки, Горбатюк представлял себе человека с несвежим, истрепанным лицом, в такой же несвежей, поношенной одежде, ибо из беседы с женщинами он знал, что Нанаки почти ежедневно приходит домой в нетрезвом виде. Фамилия этого «героя» напоминала Горбатюку что-то восточное, и он думал, что у Нанаки должен быть крупный, с горбинкой нос и черные усики над тонкими, крепко сжатыми губами.
Усики у Нанаки действительно были, хоть и не черные, а светлые; были у него и тонкие губы, так пренебрежительно поджатые, будто он давно уже решил, что ничего хорошего от людей не дождешься. Все остальное в нем являлось полной противоположностью тому, что рисовало воображение Горбатюка.
Нанаки был очень прилично одет — в бежевом макинтоше и такого же цвета шляпе. На третьем пальце правой руки блестел массивный золотой перстень. Лицо у него было выхоленное и свежее, с равномерно розовой, как у хорошо выкупанного поросенка, кожей, уши — маленькие, толстые, приплюснутые к черепу. Брови и ресницы, как и усики, были светлые, почти бесцветные и такими же светлыми, бесцветными и холодными глазами смотрел он на Горбатюка. «Он очень жесток, — подумал Яков. — И, вероятно, избивает свою жену с таким же спокойствием и методичностью, как и бреется».
— К нам поступила на вас жалоба, — заговорил Яков. — Мы и пригласили вас в редакцию, чтобы поговорить по этому поводу.
Нанаки, не мигая, смотрел на него, и лицо его было таким же неподвижным, как и до этого.
— Прошу показать мне эту жалобу.
Горбатюк протянул ему копию письма без подписей женщин.
Нанаки осторожно взял лист бумаги и начал читать. И чем дольше читал он, тем чаще моргал глазами, а щеки его покрывались красными пятнами. «Допекло-таки!» — злорадно подумал Яков.
Нанаки прочел письмо раз, потом просмотрел еще раз и лишь после этого сказал:
— Наглая ложь!
— В чем же ложь?
— Я знаю, кто это написал, — не отвечая, продолжал тот. — Они готовы меня со свету сжить, они завидуют мне!..
— А то, что вы бьете свою жену, — тоже ложь?
— Я считаю ниже своего достоинства отвечать на этот оскорбительный для меня вопрос, — напыщенно ответил Нанаки, заморгал веками и сжал губы так, что их уже совсем не стало видно.
«Он, безусловно, бьет ее», — подумал Горбатюк. В нем все с большей силой нарастало раздражение против этого человека, но по профессиональной привычке он сохранял спокойное, даже приветливое выражение лица.
И Нанаки попался на эту нехитрую удочку.
— Я никому не позволю компрометировать себя! — с апломбом продолжал он, стуча ребром ладони по копии письма. — Я буду жаловаться в обком партии, я требую назвать фамилии тех, кто написал этот грязный пасквиль…
— Мы не имеем права сделать это, — тихо ответил Яков.
— Вот так всегда! — презрительно усмехнулся Нанаки. — Тебя оклевещут, обольют грязью, а ты даже защищаться не можешь!
Горбатюк молчал. Это хорошо, что Нанаки разговорился. Пусть говорит побольше, раскрывается перед ним.
— Но я знаю, кто это писал, — снова поджал губы Нанаки. Лицо его стало еще более холодным и жестоким. — Они вмешиваются в мою семейную жизнь, рады залезть своими грязными лапами в то, что я считаю святыней… Да, святыней! — выкрикнул он, словно боялся, что Яков не поверит ему. — Они стараются восстановить против меня мою жену, подбивают ее, чтобы она шла на работу, разрушают мой семейный очаг…
— А ваша жена когда-нибудь работала?
— Она закончила техникум культпросветработы, — небрежно бросил Нанаки. — Но это не имеет значения… Она — моя жена и должна воспитывать моих детей сознательными строителями коммунизма. Я материально обеспечиваю семью, и она должна, согласно разумному разделению труда, вкладывать свою долю в наше общее дело. И, наконец, имею я право, работая как вол, материально обеспечивая свою семью, находить в ней уют, благоприятную атмосферу для отдыха? — уже раздраженно спросил он. — Имею я право защитить свою семью от баб, которые возненавидели меня только за то, что я одеваюсь лучше, чем их мужья, и стою на более высокой ступени культурного развития?
Нанаки говорил так, будто читал лекцию. Но несмотря на то, что он несколько раз повышал голос, поджимал губы и обиженно моргал глазами, несмотря на красные пятна на щеках, от всех фраз веяло холодком, и они вовсе не убеждали Якова. Вот сидел перед ним, казалось бы, приличный, даже благообразный человек, но за этой внешней оболочкой скрывалась фальшивая, подлая и низкая душонка, которую лишь иногда выдавал скользкий взгляд бесцветных глаз, как бы вопрошавший: «Удалось мне тебя обмануть или нет?»
Горбатюку казалось, что он уже не в первый раз слушает Нанаки, и чем дальше тот говорил, тем больше овладевала им странная уверенность, что они уже когда-то встречались и беседовали на эту тему. «Но я ведь никогда не видел его!» — удивлялся Яков, не спуская глаз с Нанаки, который все говорил и говорил, жестикулируя небольшой, усеянной рыжими веснушками рукой.
«Этой рукой он бьет жену», — снова подумал Горбатюк, и ему захотелось грубо оборвать Нанаки, сделать что-нибудь неприятное этому типу. Но он сдержал себя и только спросил:
— А что там было у вас с клумбой?
Нанаки умолк, рука повисла в воздухе, — видно, Яков нарушил ход его мыслей.
— Ничего незаконного! — наконец проговорил он. — Я их еще с лета предупреждал, что намерен воспользоваться участком, который по праву принадлежит мне. У нас шесть квартир, и я отмерил себе ровно шестую часть. Если хотите убедиться, можно создать комиссию и перемерить…
— Вы читаете лекции?
— Да, читаю. Меня считают лучшим лектором. И кажется, не без оснований… Вы можете затребовать служебную характеристику.
— Хорошо…
Яков не знает, о чем говорить дальше. Для него уже совершенно ясно: перед ним закоренелый эгоист. Теперь Яков понимает, почему с первого взгляда почувствовал такую неприязнь к Нанаки, с таким предубеждением разглядывал его… «Но откуда у меня это чувство, будто я где-то встречался с ним?» — не дает ему покоя недоуменный вопрос.
— Я вам больше не нужен? — прерывает молчание Нанаки.
— Благодарю. Простите, что побеспокоил.
Горбатюк подымается и выжидающе смотрит на Нанаки. Но тот не спешит. Медленно надевает шляпу, долго возится с макинтошем, а когда задерживаться больше уже нельзя, подымает на Якова свои бесцветные глаза.
— Вы что-то хотели добавить? — спрашивает Горбатюк.
— Да… Собственно, нет, не хотел… — мямлит Нанаки. — Вы, конечно, не будете печатать этот пасквиль?
И тут Яков не выдерживает. Хоть он хорошо знает, что в практике журналистов не принято рассказывать о своих намерениях, но отвращение к этому человеку, желание поколебать его эгоистическую самоуверенность берут в нем верх. Глядя в глаза Нанаки, он твердо говорит: