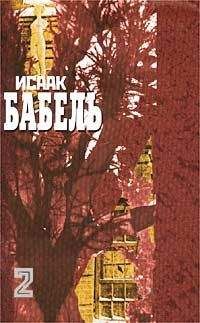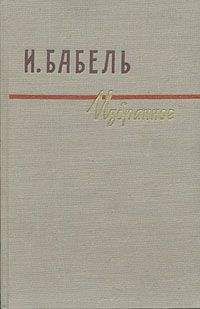Исаак Бабель - Том 3. Рассказы, сценарии, публицистика
Я стараюсь выбрать себе читателей, причем я тут стараюсь не задавать себе легкой задачи. Я себе задаю читателя, чтобы он был умный, образованный, со здоровым и строгим вкусом. Вообще считаю, что хорошо рассказ читать только очень умной женщине, потому что эта самая половина рода человеческого в хороших своих экземплярах обладает иногда абсолютным вкусом, как некоторые люди обладают абсолютным слухом. Здесь самое главное — представить себе читателя и представить построже. Со мною так. Читатель живет в душе моей, но так как он живет довольно долго, то я его смастерил по образу и подобию своему. Может быть, этот читатель слился со мной.
После написания рассказа никогда в воспламененном состоянии его никому не читайте, не бегите поделиться великой новостью: разродился. Это не очень легкая штука. Потребуется довольно много усилий, чтобы заставить себя не читать, не бежать в соседнюю комнату, а чтобы дать ему <рассказу> отлежаться и читать его со свежим чувством. Причем, если я выбрал себе читателя, то тут я думаю о том, как мне обмануть, оглушить этого умного читателя. Я его уважаю. Это ужасная вещь — старинная актерская мудрость — «публика дура». Надо взять себе серьезного критика и стараться его оглушить до бесчувствия. Такое самолюбие у человека должно быть. А как только это чувство пробуждается, вы перестаете делать гримасы.
Мое отношение к прилагательным — это история моей жизни. Если бы я написал свою биографию, то назвал бы ее «История одного прилагательного». В молодости я думал, что пышность выражается пышностью. Оказывается, нет. Оказывается, что надо очень часто идти от обратного. Причем всю жизнь — «что писать» я почти всегда знал, но так как я не мог это написать на двенадцати страницах, так как я сам себя сковал, то я должен выбирать слова значительные — во-первых, простые — во-вторых, красивые — в-третьих.
Вопрос. Почему вы не поклонник тех вещей, которые написали?
Бабель. Я считаю, что те вещи, которые написаны, могли быть лучше, проще. Но я принадлежу к числу тех молодых людей, которые даже прыщи в молодости принимают как закон. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ослеплен гордостью, но мне кажется, что я вижу теперь мысль и способ выразить ее лучше, чем я делал это тогда, когда писал эти вещи. Единственное, что меня не огорчает, это то, что мне не приходится брать свои слова обратно.
<Утесов>*
Утесов столько же актер, сколько пропагандист. Пропагандирует он неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченного жаждой веселости и познания. При этом — музыкальность, певучесть, нежащие наши сердца; при этом — ритм дьявольский, непогрешимый, негритянский, магнетический; нападение на зрителя яростное, радостное, подчиненное лихорадочному, но точному ритму.
Двадцать пять лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства, — комедией и джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом. Но до сих пор его лучшая, ему «присущая» форма не найдена и поиски продолжаются, поиски напряженные.
Революция открыла Утесову важность богатств, которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его искусства, народность, заразительность его певучей души. Тайна утесовского успеха — успеха непосредственного, любовного, легендарного — лежит в том, что советский наш зритель находит черты народности в образе, созданном Утесовым, черты родственного ему мироощущения, выраженного зажигательно, щедро, певуче. Ток, летящий от Утесова, возвращается к нему, удесятеренный жаждой и требовательностью советского зрителя. То, что он возбудил в нас эту жажду, налагает на Утесова ответственность, размеров которой он, может быть, и сам не сознает. Мы предчувствуем высоты, которых он может достигнуть: тирания вкуса должна царить в них. Сценическое создание Утесова — великолепный этот, зараженный электричеством парень и опьяненный жизнью, всегда готовый к движению сердца и бурной борьбе со злом, — может стать образцом, народным спутником, радующим людей. Для этого содержание утесовского творчества должно подняться до высоты удивительного его дарования.
Переводы*
Ги де Мопассан. Идиллия*
Поезд шел из Женевы в Марсель. Он шел вдоль медленных извилин скалистого берега, скользил железной змеей между морем и горами, пробирался по желтому прибрежному песку, омытому серебряной пеной прибоя, и вползал в черные пасти тоннелей, как зверь вползает в свое логово.
В последнем вагоне поезда ехали пухлая женщина и молодой парень; они молчали и изредка поглядывали друг на друга.
Женщине едва ли исполнилось более двадцати пяти лет; усевшись у окна, она рассматривала пейзаж, расстилавшийся перед нею. Это была могучая крестьянка из Пьемонта, с черными глазами, с обширной грудью и мясистыми щеками. Она разложила на скамейке свои узелки, а корзину оставила у себя на коленях.
Парню же можно было дать лет двадцать; он был худ, черен и покрыт угольным загаром людей, работающих на поле и сжигаемых солнцем. Имущество его, завернутое в платок, лежало тут же рядом с ним: пара башмаков, рубаха и куртка со штанами. Лопату и кирку, перевязанные бечевкой, он спрятал под лавку. Парень отправлялся во Францию, он рассчитывал найти там работу.
Полуденное солнце осыпало берег огненным ливнем; май был на исходе; упоительное дуновение проникало в открытые окна вагонов. Лимонные и апельсиновые деревья цвели; подслащенные их испарения, такие густые и зажигательные, смешивались в безоблачном небе с дыханием роз, росших как трава у дороги — и в богатых садах, и в поле, и у крыльца жалкой лачуги.
Розы! Вот их жилище, берег этот — их родина! Волны плывущего могущественного запаха колышутся по всей стране, превращают воздух в лакомство, опьяняют как вино и дразнят сильнее вина.
Поезд тащился медленно; он подолгу нежил железные, горячие бока в нескончаемом этом саду. Поезд то и дело останавливался у крохотных станций, у заброшенных белых домиков; потом с протяжным свистом он уползал снова. Новых пассажиров не прибавлялось. Весь мир, казалось, охвачен дремотой, ему невмочь пошевелиться в это пылающее утро весны.
Толстуха, ехавшая в последнем вагоне, клевала носом, корзинка скатывалась с ее колен, она подхватывала ее в последнюю минуту и, широко раскрыв глаза, застывала перед окном; потом она засыпала снова. Капли пота блестели на ее лбу, женщина дышала с трудом, придавленная зноем и неведомым каким-то гнетом.
Парень, уронив голову, спал мужицким, крепким сном.
У маленького полустанка крестьянка проснулась, она вытащила из корзины хлеб, крутые яйца, фляжку вина и сливы — розовые, чудесные сливы — и принялась есть.
Парень тоже проснулся — он вскочил как от толчка и уставился на женщину; глаза его следили, не отрываясь, за каждым куском, который она отправляла в рот, и двигались вслед за этим куском. Он сидел, не шевелясь, со скрещенными руками, глаза его были выпучены, щеки впали, губы сжались. Баба ела, как едят прожорливые, кроткие, сдобные женщины, прерывая работу челюстей только затем, чтобы передохнуть; каждый кусок она сдабривала глотком вина, вино проталкивало в пищевод крутые яйца. Она истребила всю пищу без остатка — и хлеб, и яйца, и сливы, и вино. Тогда парень снова прикрыл глаза. Отяжелев, она распустила корсаж; парень опять устремил на нее неподвижный взгляд.
Крестьянка, нисколько не обеспокоенная, продолжала расстегивать платье; давление сильных грудей раздвигало материю, полоска обнаженного тела и краешек белья блеснули у впадины между грудями. Облегчив себя, крестьянка сказала по-итальянски:
— Как жарко здесь, нельзя дышать… Парень ответил на том же языке и с таким же резким акцентом:
— В хорошую погоду приятно ездить… Она спросила:
— Вы из Пьемонта?
— Я из Асти.
— А я из Казаля.
Они оказались соседями, у них потекла неторопливая беседа. Они разговорились о житейских, простых вещах, занимающих каждого простолюдина и дающих обильную пищу медленному, ограниченному его уму. Они поговорили о родине, там оказались у них общие знакомые. Они называли друг другу все новые имена, и эти люди, встреченные ими когда-то, сближали их все теснее. Сдавленные, торопливые слова с певучими и пронзительными итальянскими окончаниями вылетали из их ртов. Потом они рассказали каждый о себе.
Она, оказалось, замужем; трое ее детей оставлены на попечение у сестры, ей вышло место кормилицы, — хорошее место у одной французской дамы в Марселе.
А он, что касается его, то он ищет работу. Его тоже направили в Марсель, там, говорят, идет большая стройка.