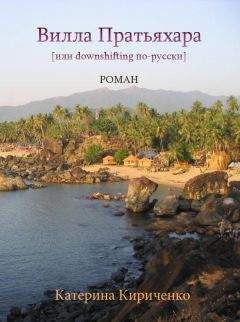Петр Кириченко - Четвертый разворот
— Женится, — возразила Глаша и едва приметно улыбнулась. — Если не вмешаться, то непременно женится.
Ее уверенность заставила меня подумать, что, возможно, жизнь в Риме не играла для Рогачева такой роли и он готов был проявить человеческое чувство. Чего-то недоставало в этих мыслях, но додумать я не успел: Глаша повторила, что Рогачев непременно женится. Спорить не хотелось: она лучше знала своего мужа.
— Тогда его можно поздравить, — поддел я ее. — Не с женитьбой, конечно, а с тем, что он становится человеком. Не всякий способен совершить поступок...
Верно, я добавил бы, что этого нам всем не хватает, но тут Глаша скупо заплакала и сквозь слезы попросила дать ей воды или чаю. Я налил стакан и спросил, не хочет ли она кофе. Она кивнула, шмыгнула носом и пошла в прихожую к зеркалу. Утешать ее было нечем, и я принялся молоть зерна. Она возвратилась с сухими, даже не покрасневшими глазами, спросила, где это я купил такую симпатичную кофемолку, а после, попробовав кофе, похвалила меня и стала довольно весело рассказывать, как познакомилась с Рогачевым. Меня несколько удивила такая перемена, но я был рад, что она не плачет, и внимательно слушал. Рассказывала она слишком подробно, неторопливо, так что я, заваривая еще по чашке, узнал, как она работала медсестрой в санчасти, любила бегать на танцы и в кино и была, как она сказала, девушкой бедовой. На танцплощадке она и познакомилась с летчиком — это был Петушок.
— До этого я встречалась там с одним, — сказала она так, будто бы оговаривалась, — но он переучился и уехал... Сам знаешь, как это происходит... Ты бывал у нас?
— Полгода учился, — ответил я, не совсем понимая, зачем она все это говорит. — И что Петушок?
— А что Петушок, — повторила она — Друг-то у него был Рогачев. Так потом они вдвоем и бегали на свидание.
Глаша рассказала, что поначалу ее это смешило, а после пришло в голову, что ее разыгрывают, потом и вообще не знала, что думать и гадать. Однажды Рогачев появился один, она удивилась и спросила о Петушке. Рогачев ничего не ответил, повел ее в кино и, пока они шли до центра, сделал ей предложение.
— Можешь представить, — проговорила она с грустью. — Ничего не светило, и вдруг — на тебе! — выходи замуж. Я и ног под собой не чуяла, пока шли, хотя и посмеялась, что надо, мол, подумать. Фамилия мне твоя, говорю, не очень кажется. А сама думаю: Петушок — фамилия не лучше. Но он потребовал, чтобы непременно сразу, все сразу— отвечай и... Ну, я и согласилась: оставалась неделя, им надо было уезжать. А Рогачев говорил мне, наговаривал, как мы будем жить, как все будет хорошо и весело. Я ничего тогда не слышала и не понимала, но готова была идти за ним куда угодно, как привязанная. Да и что мне было делать, если я согласилась? Идти за ним, — ответила она сама себе. — Что же еще... О Петушке, правда, я шутя спросила, куда, говорю, друга спрятал? Рогачев сказал, что Петушок сломал ногу. Я поверила, пожалела человека, а потом мы забыли о нем...
Утром к ней в санчасть пришел разобиженный Петушок и сказал, что он прождал весь вечер, как они я договорились, у кинотеатра. Глаша поняла, что Рогачев обманул друга, и пообещала, что непременно отчитает того. И вот тут мне пришло в голову, что Петушок хотел жениться на Глаше и доверился в этом Рогачеву; иначе зачем бы такая спешка? Я почувствовал интерес к этой истории и спросил Глашу, что еще говорил Петушок.
— Ничего особенного, — ответила она, — но раскудрявил своего друга что надо, и так налетал и этак. Обозлился страшно. Ну, что было, того не вернешь, ушел он, а через час привезли его к нам с переломом ноги. Вот тут я и села: Рогачев говорил об этом еще вчера.
Она замолчала, ожидая, как я откликнусь на такое странное происшествие, но я молчал, думая, не это ли совпадение в дальнейшем дало Рогачеву излишнюю уверенность в себе.
— Мне даже страшно стало, — сказала Глаша. — Как же так получилось? Неужели он знал?
— Совпадение, — ответил я, хотя и не совсем был в этом уверен, и спросил: — А Петушок гулял на вашей свадьбе?
— Мы приглашали, но он не пришел, — ответила Глаша и в свою очередь поинтересовалась: — Ты ведь не женишься на Татьяне?
Меня удивил такой резкий поворот, и пообещал Глаше поступить, как она скажет. Она куснула губу и живо стала говорить о том, что я помогу ей в любом случае — женюсь или не женюсь. Интересно получалось: как бы я ни повернулся, куда бы ни ступил, выигрывала Глаша и, надо полагать, Рогачев. И тут я понял, что весь ее рассказ о жизни и знакомстве с Рогачевым ничего не стоил: ей надо было внушить мне мысль о всесильности мужа. Не зря же она ждала моей реакции на сломанную ногу. Можно было разочаровать ее, сказав об умершем официанте, но мне пришло в голову, что в очередной раз я недооцениваю эту самую Глашу, у которой были мягкие лапки, но острые коготки.
План ее оказался довольно простым, но именно этот план говорил, что изучила она своего мужа неплохо, и заодно подтверждал старую истину, что муж и жена — одна сатана. В нем мне отводилась небольшая, но важная роль, вроде бы даже со словами. Я должен был через механика или второго пилота дать понять Рогачеву, что мы с Глашей встречаемся и намерены пожениться. Услышав об этом, я засмеялся так, как давно уже не смеялся, настолько все выглядело нелепо. Глаша спокойно пережидала и смотрела, как смотрят на расшалившегося ребенка — снисходительно, и вроде бы даже радовалась моему веселью.
— Он со смеху лопнет, — выговорил я не сразу. — Не успеет нас даже благословить... Ну, придумала ты...
— А напрасно ты смеешься, — уверенно сказала Глаша. — Он перенесет все, но только не это. Люди бывают, сам знаешь, какие: пинают (у нее вышло «пиннают») ногами, норовят ударить побольнее, а попроси отдать, клянутся, что жить не могут, правда? А я была бы тебе очень благодарна.
Она нажала на слове «очень» и, чтобы рассеялись последние сомнения, добавила:
— Я же пришла.
— Как пришла, так и уйдешь, — ответил я все еще весело, но она взглянула так, что мне стало не по себе.
Глаша смотрела не мигая, и взгляд ее говорил, что я крепко ошибаюсь и что уйти ни с чем она не имеет права. Она хорошо все обдумала и начала действовать. Сначала подкатилась благородно, дескать, хочет всем помочь, затем — деловое предложение. Натура ли ее была такова, или прожитые вместе с Рогачевым годы не прошли напрасно? Не знаю, но мне стало ясно, что это милое существо с припухшими веками, любившее вязание, детей, котов и книги, без особого труда оплетет меня, сделав «чудесный» кокон, и подвесит к потолку в кладовке. С совестью у нее, видать, была полная договоренность, поскольку она честно платила за услугу и требовала плату сама. Ларек, где она «заработала» свою тысячу, как бы там ни было, не прошел даром; и только теперь я увидел серьезность того, что она явилась заплатить мне за звонок и пообещать награду в будущем...
— Что же мне за это будет? — спросил я нарочито серьезно, чтобы она поверила. — Если я соглашусь с твоим планом...
Глаша обрадованно и несколько удивленно взглянула на меня, вероятно поражаясь в очередной раз мужской бестолковости, и ответила:
— Все!
Дураку было понятно, что она имела в виду, но есть ведь умники, которые на самом деле глупее дураков, и я попросил говорить определеннее. Глаша усмехнулась, и тут до нее, кажется, дошло, что ее любовь меня не интересует; прикинув, не много ли кидает на весы, она сказала, что познакомит меня со своей приятельницей. Она расписала ее так ярко, что перед глазами встала престарелая красавица из торговли, имевшая квартиру, телевизор, дачу и готовность потратиться на мужчину.
— Что, жизнь купить хочет?
— Зачем ты так! — Глаша сделала вид, что обиделась. — Ее пожалеть надо... даже если и так: будешь кататься, как сыр в масле.
— Пусть купит собаку, — посоветовал я, чувствуя, как меня начинает подмывать этот разговор. — Дешевле, спокойнее. Мне же ничего не надо.
Глаша вздохнула, серьезно сказала, что людям все надо, но они хитрят, и то, что не могут достать, называют лишним, ненужным, — протягивают ножки по одежке. Что ж, точное наблюдение, но меня-то оно не касалось. Глаша только улыбнулась на мои слова, и тогда я сказал, что лет пять назад, когда я толком не знал ни Рогачева, ни ее саму, у меня было пятьдесят секунд на размышления, и это время, поскольку оно летело вместе с нами с двух тысяч до земли, изменило мою жизненную философию; я, несомненно, поглупел, поскольку ценю теперь очень немногие вещи, а главное — солнце над головой. Мне не хотелось говорить такие слова, как «падение», «отказ», поэтому доказательство вышло несколько туманным. Но Глаша поняла меня.
— Это могло печально закончиться?
— Да, — ответил я. — Но скажи мне, куда же мы денем Татьяну, о которой так заботились?
Мне казалось, Глаша, эта сестра печали, говорившая о помощи людям, о любви, будет поставлена в тупик, но Она ответила сразу:
— А что тебе до нее! Ребенок не твой, так что претензий с ее стороны не будет, а любить... Да ты ее не любишь, правда?