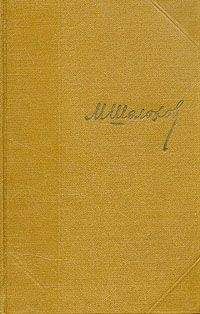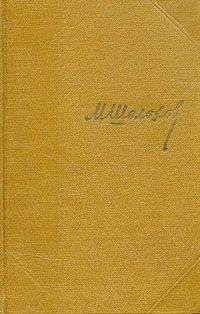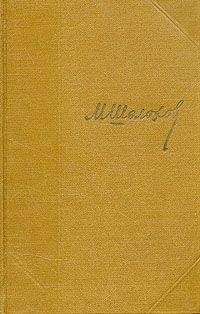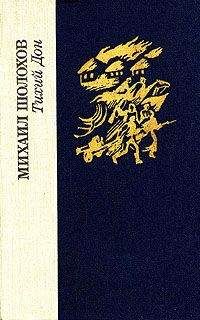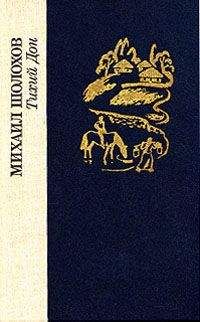Михаил Шолохов - Том 5. Тихий Дон. Книга четвертая
Когда последний пароход, покачиваясь, начал отходить от причала, в толпе послышались женские рыдания, истерические вскрики, ругань… Не успел еще утихнуть короткий басовитый рев пароходной сирены, как молодой калмык в лисьем треухе прыгнул в воду, поплыл вслед за пароходом.
— Не вытерпел! — вздохнул кто-то из казаков.
— Значит, ему никак нельзя было оставаться, — проговорил стоявший возле Григория казак. — Значит, он красным дюже нашкодил…
Григорий, стиснув зубы, смотрел на плывущего калмыка. Все реже взмахивали руки пловца, все ниже оседали плечи. Намокший чекмень тянул книзу. Волною смыло с головы калмыка, отбросило назад рыжий лисий треух.
— Утопнет, проклятый нехристь! — сожалеюще сказал какой-то старик в бешмете.
Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатыревым. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул:
— Да поспешай же ты, Пантелевич! — И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: — Пока не поздно, давай уходить. Тут собралось нас с полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттудова в Грузию. Ты как?
Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков.
— Поедешь или нет? — настойчиво спрашивал Рябчиков, подъехав вплотную.
— Нет, не поеду.
— С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут наскрозь знает, говорит: «Зажмурки до самого Тифлису доведу!» Поедем, Гриша! А оттуда к туркам, а? Надо же как-то спасаться! Край подходит, а ты какой-то, как рыба, снулый…
— Нет, не поеду, — Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело, по-стариковски, сел в седло. — Не поеду. Не к чему. Да и поздновато трошки… Гляди!
Рябчиков оглянулся, в отчаянии и ярости скомкал, оторвал темляк на шашке: с гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы. С бронепоездов ударили по цепям из орудий. Возле мельницы Асланиди разорвался первый снаряд.
— Поехали на квартиру, ребятки, держи за мной! — приказал повеселевший и как-то весь подобравшийся Григорий.
Но Рябчиков схватил Григорьева коня за повод, испуганно воскликнул:
— Не надо! Давай тут останемся… На миру, знаешь, и смерть красна…
— Э, черт, трогай! Какая там смерть? Чего ты мелешь? — Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушило громовым гулом, донесшимся с моря. Английский дредноут «Император Индии», покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих двенадцатидюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходившие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клекотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды.
Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал:
— Ну и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенят красных! Пользы от ихней стрельбы никакой, одного шуму много…
— Нехай стервенят! Нам зараз все равно, — улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице.
Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели шесть конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровянел, как рана, кумачный бант.
Часть восьмая
С юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные лога и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой донской степью голубая весна.
Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб.
Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитая туманом даль, затопленные талой водою яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями — все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками, будто осиянное солнцем.
Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой; запах прелой соломы и оттаявшего чернозема был так знаком и приятен, что Аксинья глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ; незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это она — услышанная на чужбине песенка — заставила учащенно забиться Аксиньино сердце и выжала из глаз две скупых слезинки…
Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле…
Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий, но потом узнала от заходивших к хозяину соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную Армию и на рудники.
К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель.
— Ты что ж это, добрый человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство располагаешься? — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.
А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь сказал:
— Прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен: спервоначалу разденься, а потом уж просись ночевать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется…
— Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем, — уже мирнее сказал хозяин.
— Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну.
— Ты кто же, такой будешь, дедушка? Беженец? — полюбопытствовала хозяйка.
— Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а зараз уж оттуда потихонечку иду, приморился бегать-то… — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки.
— А кто такой есть? Откудова? — продолжал допытываться хозяин.
Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и, все с той же не сходящей с губ улыбкой, сказал:
— Вот по моему чину документ, от самого Новороссийска с ним командируюсь, а родом я издалека, из-за Вёшенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды.
— И я вёшенская, дедушка, — вспыхнув от радости, сказала Аксинья.
— Скажи на милость! — воскликнул старик. — Вот где станишницу довелось повстречать! Хотя по нынешним временам это и не диковинно: мы зараз, как евреи, — рассеялись по лицу земли. На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадешь в донского казака. Понавтыкано их везде — не оберешься, а сколько в земле зарыто — и того больше. Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и не расскажешь! Позавчера сижу на станции, рядом со мной благородная женщина в очках сидит, сквозь очки вошек на себе высматривает. А они по ней пешком идут. И вот она их сымает пальчиками, а сама так морщится, как будто лесовую яблоку раскусила. Начнет эту бедную вошку давить — еще дюжей морщится, аж всю ее наперекос берет, до того ей противно! А другой твердяк человека убивает и не морщится, не косоротится. При мне один такой молодец трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер об конскую гриву, достал папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: «Ты чего, дед, гляделки вылупил? Хочешь, тебе голову срублю?» — «Что ты, — говорю, — сынок, бог с тобой! Срубишь голову мне, а тогда как же я хлеб буду жевать?» Засмеялся он и отъехал.
— Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легше, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию, — глубокомысленно вставил хозяин.
— Истинное слово! — подтвердил гость. — Человек — он не скотина, ко всему привыкает. Вот я и спрашиваю у этой женщины: «Кто вы такая будете? По обличью вы словно бы не из простых». Глянула она на меня, слезой умылась. «Я — жена генерала-маёра Гречихина». Вот тебе, — думаю, — генерал, вот тебе и маёр, а вшей, как на шелудивой кошке блох! И говорю ей: «Вы, ваше превосходительство, ежли будете, извиняюсь, ваших насекомых козявок так переводить, так вам работы до Покрова хватит. И коготки все пообломаете. Давите их всех разом!» — «Как так?» — спрашивает. Я и посоветовал ей: «Сымите, — говорю, — одежку, расстелите на твердом месте, и бутылкой их». Гляжу: сгреблась моя генеральша и — за водокачку, гляжу: катает по рубахе бутылку зеленого стекла, да так здорово, как, скажи, она всю жизнь ее катала! Покрасовался я на нее и думаю: у бога всего много, напустил он козявок и на благородных людей, пущай, мол, они и ихней сладкой кровицы пососут, не все же им трудовой кровушкой упиваться… Бог — он не Микишка! Он свое дело знает. Иной раз он подобреет к людям и до того правильно распорядится, что лучше и не придумаешь…