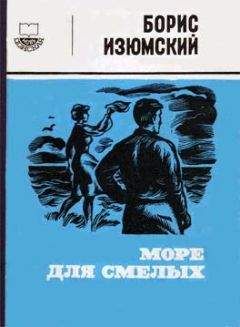Борис Горбатов - Донбасс
Наряд больше не был, как раньше, ежедневной запряжкой голодных людей в лямку; он стал своеобразным торжественным церемониалом, как развод караула или вечерняя зоря в лагере. Теперь шахтер приходил сюда не только затем, чтоб получить наряд и уйти. Сюда, соскучившись по шахте, забегали и отпускники, — повидать товарищей, узнать новости. Сюда заходили давно ушедшие на покой старики-пенсионеры, по привычке или просто чтоб потолкаться среди живых людей.
Здесь единственный раз за день собиралась вместе вся смена, чтоб затем разойтись по всей шахте, по своим одиноким уступам, забоям, бремсбергам или уклонам. Здесь можно за час наговориться досыта, чтоб потом всю смену молчать в тиши забоя; накуриться вволю, чтоб потом восемь часов не курить в шахте. Здесь можно узнать все новости и слухи — от международных до местных, базарных. Можно всласть поругаться с десятником из-за неправильно записанной упряжки и тут же пожаловаться начальнику участка. Здесь можно встретить заведующего шахтой, или парторга, или председателя шахткома, или даже всех сразу и с каждым из них, если есть нужда, поговорить. Сюда обязательно заглянут приехавшие на шахту люди из центра — инспекторы, корреспонденты, инструкторы. И нарядная нечаянно в одну минуту может превратиться в дискуссионный клуб, в майдан для митинга, в театр, где ко всеобщей потехе разыгрывают хвастуна и лодыря, или в зал собрания. Но и собрание и митинг, если уж они возникнут, будут не такими, как везде. Здесь можно выступать, не записываясь и даже просто не поднимаясь с полу, на котором сидишь по-забойщицки, на корточках, привалившись спиной к стене. Здесь говорят не речисто, без тезисов, зато и не стесняясь в выражениях. Здесь можно и вообще речи не держать, а только одно словцо бросить, и если оно меткое, то навсегда прилипнет к человеку, станет кличкой. Здесь критикуют люто, по-шахтерски, на чины не глядя и ничего не боясь. И оттого иные руководители не любят бывать на наряде, побаиваются. Но и зря тут шахтер ничего не скажет, не соврет, иначе его тут же разоблачат и засмеют товарищи.
Но нарядная все-таки не клуб. Люди приходят сюда затем, чтоб через час спуститься в шахту. Все уже в шахтерках. У каждого в руках инструмент и лампочка.
Тесной кучкой сбиваются они вокруг своего бригадира, как бойцы вокруг отделенного перед боем. И над всем, что говорят, что делают и что думают люди в нарядной, властно стоит труд, ради которого они и собрались здесь.
Вот что такое нарядная. Побывать на наряде, послушать, что говорят, чего хотят, чем живут сейчас шахтеры, — неписаный закон для каждого партийного работника, приехавшего на шахту. Вот почему и секретарь горкома Рудин приехал на «Крутую Марию» так рано и сразу же отправился не в контору, не в шахт-партком и не на квартиру Нечаенко, а в нарядную. Дорогу туда он хорошо знал.
В нарядной его сразу заметили и узнали.
— Смотри, смотри! — зашептал Андрей Светличному. — Рудин приехал! Вот этот, большой такой… — Но Светличный уже сам догадался об этом.
Рудин был то, что называется видный мужчина. Был он высокого роста, гибкий и молодцеватый, с каштановой гривой волос, откинутых назад и уже седеющих на висках. Он носил костюм военного образца и цвета хаки, но не солидный френч, а юношескую гимнастерку, галифе и высокие хромовые сапоги, а зимой — бурки. У него было незаурядное лицо — лицо оратора, вожака: орлиный нос, высокий лоб, гордо посаженная голова, всегда чуть-чуть откинутая назад. Вероятно, в молодости он был замечательно хорош собой. Сейчас все в нем чуть-чуть обрюзгло и отяжелело, зато стало еще более значительным. У него были светло-серые, цепкие глаза ястреба и капризные, пухлые губы ребенка, он надувал их и громко сопел, когда сердился или скучал. Морщин на его лице не было; только две резкие складки у рта и одна на переносице; они свидетельствовали либо о силе характера, либо о привычке к власти.
Андрей восхищенно смотрел на него. Теперь все зависело от этого человека.
Рудин легкой походкой прошел на середину нарядной. Вокруг него тотчас же собрался народ. Десятники и начальники участков выглянули из своих окошечек. «Будет-таки митинг!» — недовольно поморщился Дед, но вслух ничего не сказал.
— Ну, здравствуйте, товарищи! — громко поздоровался Рудин и привычно огляделся по сторонам. — А, Прохор Макарович! — окликнул он кого-то и помахал рукой. — Привет! Здравствуй, Трофим Егорыч! — Он знал всех почетных стариков в районе и всегда величал их по имени-отчеству. — Скрипишь еще, Петр Филиппович? — протянул он руку стоявшему подле него крепильщику Кандыбину.
— Та замажешься! — конфузливо сказал тот, показывая свои грязные от угольной пыли руки.
— Ничего, ничего! — засмеялся Рудин. — Уголек — не чернила. Чернилами я действительно мазаться не люблю. А уголек — святое дело!
Сквозь толпу к Рудину пробирался бригадир бутчиков Карнаухов. Про него на шахте говорили, что его хлебом не корми, дай только постоять подле начальства.
— Золотые твои слова, товарищ Семен! — запел он. — То есть в самую точку! Угольком не замараешься. Я так скажу: шахтер — самый чистый человек на земле, он каждый день в бане моется.
— Верно! — подхватил Рудин. — А мы, начальники, только тогда в «баню» и попадаем, когда нас в центр вызовут холку мылить! Ну, а у вас как дела, как добыча?
— А что дела! Жаловаться не приходится! — за всех ответил Карнаухов своим сладким, старческим тенорком; в детстве он певал на клиросе. — План, слава богу, выполняем, на все, как говорится, на сто…
— Жаловаться не приходится, да и хвастаться нечем! — усмехаясь, перебил его высокий, хмурый шахтер, стоявший прямо перед Рудиным.
— А что? А что? — взъерепенился Карнаухов. — Ты выполнением плана недоволен, товарищ Закорлюка?
— План! Да какой же это план? Перед соседями стыдно!.. Вот на «Софии» смеются над нашим планом…
— А-а! План тебе маловат? Тебе больше надо?
— Да мне что? — передернул плечами Закорлюка. — Отвяжись ты от меня, сделай милость! — сказал он, отодвигаясь от Карнаухова.
— Ему больше всего надо, он жених! — злорадно выкрикнул откуда-то из толпы Макивчук. — У них с Катькой свой Госплан…
— Нам всем больше надо! — строго сказал старик Треухов. — Не на хозяина работаем. Правильно, Закорлюка! Говори все.
— Да что, товарищ секретарь, — вмешался вдруг Митя Закорко, смело поблескивая глазами, — если правду сказать: вполсилы мы работаем. То воздуха нет, то порожняка пол-упряжки ждем…
— С порожняком оттого причина, что путя у нас плохие, — сказал кто-то, судя по кнуту на плече — коногон. — Путя давно бы почистить надо…
— Грязи много, верно!
— А с воздухом отчего? — спросил Митя.
— А с лесом? Неужели в России леса мало? — крикнул кто-то и засмеялся. И все засмеялись вокруг.
— Болезней у нас много, товарищ секретарь! Беда — доктора нет.
— Постойте. Дайте мне слово сказать, — вдруг негромко произнес коренастый шахтер, до тех пор молча и солидно стоявший чуть-чуть в стороне.
Его голос услышали.
— Говори, говори, Очеретин! — зашумели вокруг.
Это и в самом деле был Сережка Очеретин. Но трудно было узнать в этом солидном, уважаемом, даже чуть-чуть раздобревшем шахтере прежнего Сережку-моргуна. Правда, он и теперь нет-нет да подмигивал левым глазом бессознательно, по привычке, но это был уже совсем другой человек. Настя прочно женила его на себе, и он стал образцовым семьянином, жены побаивался, а новым домом гордился. Каждую получку они под руку с Настей ходили в магазин, чаще прицениваться, чем покупать. У них в новой квартире уже все было для тихого семейного счастья: хорошая кровать с горою подушек, славянский шкаф с зеркалом, дубовый буфет, патефон с пластинками, велосипед, радио… Теперь Очеретин подумывал о пианино. «Дети вырастут, учиться будут!» Детям, Любке и Наде, близнецам, было сейчас по два года.
Про Очеретина злые языки говорили, что он жадничает, старается в забое только ради денег. Но это была неправда. Не меньше денег нужен был ему и почет. Он привык к нему. Без почета теперь он не смог бы ни жить, ни работать. С тех самых пор как впервые увидел он свое имя — С. И. Очеретин — на красной доске у проходных ворот, он лишился покоя. Сперва он боялся, что записали его на доску «по ошибке» — ошибка выяснится, и его имя с доски сотрут, потом стал бояться, что другие забойщики перегонят его в работе, а он отстанет, и имя его опять же сотрут с доски. Он и теперь еще каждый день, приходя на шахту, поглядывал: висит ли еще его портрет. Дома, на буфете, на Настиных кружевных дорожках лежал пухлый плюшевый альбом с вырезками из газет и журналов и с портретами знатного забойщика шахты «Крутая Мария» С. И. Очеретина. Нет, не только ради денег старался в забое Очеретин. Научился он и на собраниях выступать. Умел с достоинством сидеть в президиуме. Ездил на слеты ударников. Только подмигивать он не отучился, хотя Настя за это его поедом ела. Ей все казалось, что это он девчатам подмигивает из президиума.