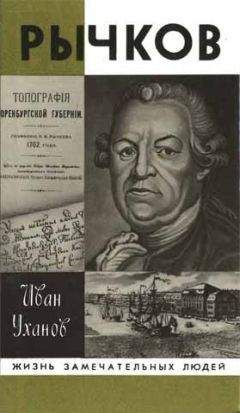Иван Уханов - Играл духовой оркестр...
«Записала бы на бумажке адресок той немецкой деревни, а то забудет. Трудное название», — обеспокоенно ворочалась на полатях Нюша, а утром сразу же напомнила об этом внучке.
IV
В день отъезда Марийки у Нюши было так хорошо и легко на душе, как давно не бывало. Ее грело доброе и какое-то новое чувство благодарности и любви к родным, к Марийке. Внучка взялась исполнить все ее наказы — и могилы отыскать, и подарочек передать кому следует. Нюшу радовали Марийкины сборы-хлопоты и предстоящая поездка, от которой она, Нюша, ждала несказанно многого, и это ожидание стало смыслом ее теперешней жизни.
Железнодорожный полустанок находился в двух километрах от деревни. Решили идти пешком. Вопреки уговорам Кати, Нюша тоже пошла провожать Марийку. Сама не знала, откуда взялась у нее сила, откуда привалило здоровья. Она шла, опираясь на палочку, и радовалась солнечному дню и тому, что шагает в ногу с молодыми, словно бы заново живет на белом свете, ясно видит, слышит и, как никогда, благодарна и доверчива судьбе.
— Мам, ты как?.. — спрашивала ее Катя.
— Ничего. Слава богу, — кивала Нюша, концом платка вытирала с лица холодный пот, слыша частый угрожающий стук собственного сердца, от которого она вся дрожала и глохла.
— Дойду, авось… Ради Мариечки, ради Гриши, Мити…
Поезд запаздывал. По перрону скучно прогуливались парочки. Петя, несший Марийкин чемодан, поставил его на асфальт, взял у девчат гремевший всю дорогу транзистор и стал ловить нужную мелодию.
— Девочки, фокс! — воскликнул он и, сунув Нюше приемник, пустился в танец. Марийка и ее подружки дружно последовали за ним. Передергиваясь и нервно взмахивая руками, будто стряхивая что-то прилипшее к пальцам, они истово вихлялись друг перед другом. Нюша, оперевшись на палочку, держала транзистор и с улыбкой глядела на это веселое озорство, терпеливо дожидаясь, когда молодежь устанет ввинчиваться в асфальт. Хотелось ей еще раз поговорить с Марийкой, посидеть рядышком перед дальней дорогой, сказать ей напоследок какое-то особое напутствие. Треск барабана и завывание, исходившие из транзистора, не вязались с ее настроением, с тихой грустью расставания, с печалью чистого предзакатного неба и по-октябрьски желтой, полунагой, тянувшейся вдоль путей лесной полоски.
— Ну, будет вам, кончайте дурачиться, — насмешливо-снисходительно сказала Катя, подходя к танцующим. Она отлучалась в буфет. — Лучше вот леденцы пососите. Угощайтесь…
Голос ее перешибло барабанной дробью, воплями. Нюше казалось, что в транзисторе душат какого-то мужчину. Слышались возня, полуобморочный шепот, стон. Эту потасовку сопровождала какая-то злая бесовская музыка. Мужчине удавалось вырваться, он успевал крикнуть что-то на непонятном языке, но тут его опять сдавливали, и он лишь приглушенно мычал… Над головой Нюши вдруг пронзительно загудело, она вздрогнула и обернулась. На нее неслась темная махина тепловоза. Обдало горячим вихрем. Тяжело застучали колоса, завертелись на асфальте желтые листья, клочки газет. У Нюши закружилась голова. Кто-то вырвал у нее из рук транзистор, послышались торопливые голоса, все пошли, почти побежали к хвосту поезда. Нюша тоже затрусила следом, но ее остановила одышка, в глазах потемнело, снова оглушил стук собственного сердца.
— Ма-ама! — слабо донесся до нее знакомый девичий голос.
Она опять побежала, натыкаясь на вышедших из вагона пассажиров.
— Ма-ама! — повис в воздухе призывный крик.
«Господи! Марийка? Варя? Кто зовет меня?..»
Нюша остановилась, подняла залитые потом глаза. Красно блеснули на вечернем солнце оконные стекла и металлические поручни вагонов, ослепили ее, опять где-то пронзительно загудело, опять побежали. Затопали, зашаркали ногами, подталкивая ее.
Казалось, что ее куда-то оттесняют, закрывают ей рот, глаза, уши… Она задыхалась… Замельтешили, колыхнулись серые каски, чужие лица, раздались злые, лающие окрики. Плотным кольцом солдаты окружили пеструю толпу девчат, штыками подперли к вагонам. В толкотне лиц, за скрещением штыков выплыло родное: испуганные глаза, раскрытый в крике рот:
— Ма-ма! Ма-ма-ня!
— Варя, доченька!.. Не пущу, не дам! — Нюша кинулась на солдат, что-то тяжелое толкнуло ее в грудь, и она стала падать…
О матери Катя вспомнила, когда поезд, стоявший всего две минуты, тронулся. Она увидела ее в руках какого-то мужчины-пассажира. Тот поддерживал мать за спину, не давая упасть, и спасительным взглядом искал, кому бы передать немощную старушку. Он с тревогой также посматривал на отходящий поезд. Катя подбежала к матери, обняла за плечи.
— Что с тобой, мама?
Нюша открыла глаза и, тяжело дыша, стала смотреть на плывущие мимо зеленые вагоны.
— Ой, говорила же, не ходи на станцию. Такая даль! — с упреком и жалостью сказала Катя.
— Ничего, Катенька, сейчас пройдет… Поторопилась шибко. А где Мариечка? — еще не отдышавшись, завертела головой Нюша.
— Поехала. Во-он рядом с кондуктором стоит. Высунулась, гляди-ка. Машет нам…
Нюша не видела Марийку, но, торопясь, слабо вскинула руку над головой и тоже замахала вслед быстро уменьшавшемуся последнему вагону, который прикрывал собою весь состав.
— Ну и хорошо, вот и слава богу, — шептала она, и ее надсаженное, но понемногу успокаивающееся сердце вновь стало заполняться сладким и скорбным чувством расставания, ожиданием и надеждами, которые зародились во время Марийкиных сборов и с отходом поезда как бы уже начали исполняться.
V
Марийка смотрела на проносившиеся за окном голые рощицы, будочки, столбы с паутиной проводов, но почти ничего не замечала вокруг, ослепленная чувством какого-то жуткого счастья: «Я еду! Одна, сама! В такую даль! Я еду и не боюсь…»
Поезд во весь мах мчался на запад, с грохотом и пронзительным гудом пролетал мимо полустанков и разъездов. Казалось, он убегает от настигавшей его темноты, гонится за солнцем, которое уплыло за горизонт. И Марийка улыбнулась этому состязанию ночи и поезда, ей хотелось еще большей скорости, в груди ее что-то пело и рвалось вперед, обгоняя и неумолимую ночь, и разгоряченный поезд.
Она еще не успела хорошенько разглядеть в купейном полусумраке своих попутчиц, познакомиться с ними и жила еще последней минутой прощания, заполненной радостной суетой и многолюдьем на перроне, лицами родных и подруг, их смехом и словами, которые она не запомнила, потому что много смеялась и говорила сама. «А что там с бабушкой стряслось? Кажется, она споткнулась, упала и ее стали поднимать… Просили же: не ходи провожать. Все ж таки потащилась. «Ради Миши, Гриши…» Вот человек? Как это папа сказал? «Старуха, бабушка-повируха: из старого ума выжила, а нового не нажила…» Нет-нет, зря он так. Бабушка канительная, но она добрая, хорошая…»
И Марийка вспомнила ее, стоящую на перроне, с палкой и транзистором в руках, в черном длинном платье и фуфайке, в белом платке на трясущейся голове, маленькую, согбенную. Бабушка с годами словно уменьшилась в размерах и постепенно как бы врастала в землю. Марийка жалела ее за это, легкую жалость вызвало сейчас и само воспоминание перрона и стоящей на нем Нюши, ее разговоры о могилках давным-давно убитых и невесть где похороненных сыновей, ее странные просьбы-поручения, которые за глаза отец назвал старческой блажью.
Еще он сказал Марийке:
— Не заблудись в Германии-то. Рот не разевай, а то отстанешь. Где ты была, чего видела? Нигде, ничего…
Но это воспоминание домашних разговоров сейчас было неуместным, не вязалось с легким настроем чувств и мыслей Марийки, с безотчетно радостным ощущением скорости поезда, уносящего ее все дальше и дальше от дома — от мамы, от бабушки, от Пети… В ней держались сейчас лишь те впечатления, которые, как и сама езда, давали веселье и восторг. Неотступно стоял перед глазами давно не стриженный и грубо загорелый в дни только что закончившейся хлебоуборки Петя, что-то говорил ей; потом он, высокий и нескладный, взял ее за руки и на виду у всех (вот хам!) полез целоваться, но не сумел поймать ее губы. Марийка улыбнулась, с нежностью вспоминая васильковые Петины глаза, его смелую попытку попрощаться с ней широко и открыто, как с невестой или женой. Потом она вскочила в вагон, а он снизу смотрел на нее преданным и грустным взглядом, растерянный и счастливый.
Изредка эти яркие и трогательные картины заслоняла серенькая, бледная: бабушка в черном платье до пят и фуфайке, ее сморщенное, хмурое лицо… И Марийка воспринимала это как некое посягательство на счастливую безоблачность летучих дорожных мыслей.
VI
Едва одолела Нюша обратную дорогу в село. Не будь рядом Кати и Пети, поддерживающих ее с обеих сторон, пройти столько она бы не смогла. Давно она не нагружала себя так, тело ее тряслось и как бы звенело от крайней слабости и внутреннего зноя. Как только вошли в село, она попросила пить. Петя сбегал в ближний двор и принес большую кружку колодезной воды.