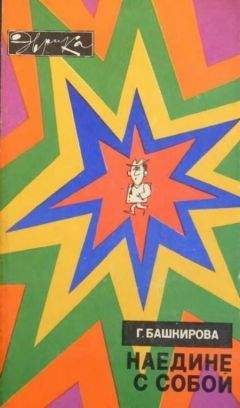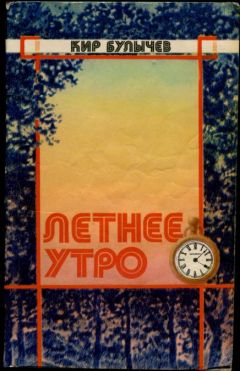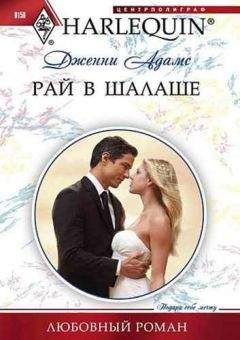Галина Башкирова - Рай в шалаше
Надо отдать должное Денисову, он относился к Костиным увлечениям с долей иронии. С другой стороны, в интеллектуальном хозяйстве денисовского дома Цветков был для него небесполезен, Таня подозревала даже, что в высшей степени полезен, и это детское желание мужа, чтобы все вокруг его семьи содержалось на высшем уровне, Таню забавляло. Как Денисов относился к Косте на самом деле, теперь трудно установить — слишком все затянулось, размылось, обрело характер столь стойкой привычки, что сквозь нее лишь изредка, как сегодня вечером, прорывалась с трудом сдерживаемая досада. А обычно Денисов возвращался домой после беспокойного дня и, заставая Костю, отдыхал в разговорах с ним, как отдыхают иные у телевизоров: Костя легко включался любым наводящим вопросом — так телевизор включается нажатием кнопки. Здесь было просто более современное — дистанционное — управление. У Тани этот обнаженный механизм их общения вызывал досаду, но оба постоянных собеседника, казалось, считали, что так оно и должно быть. Костя внешне охотно начинал что-то объяснять, Валька внешне охотно слушал, если ему надоело, легко переключая Цветкова на другую тему. И вот уже Костя увлекся, вот уже ему самому стало любопытно, и он уже с жаром что-то Денисову объясняет, и тому тоже небезынтересно... и все пошло, покатилось, и уже пора ужинать или чай пить, или Петька пристал с вопросами, а Таня...
Где же быть Тане? Таня все на кухне, моет, подтирает, стряпает, Танино присутствие в комнатах получалось необязательным, она оставалась на кухне, посылая вместо себя профессора Цветкова с его экзотическими разговорами. Для Петьки они были чаще всего непонятны, но захватывающе интересны и, значит, полезны; для мужа, так подозревала Таня, разговоры эти и в самом деле служили лишь десертом, забавой, изюмом и орехами, которые не стоило труда разгрызать: они сами просились в рот, смиренно уговаривая их попробовать, иначе чем было объяснить их присутствие в доме? Не пища духовная, не капля нектара с цветка, потребная для того, чтобы путем упорных трудов переработать ее в собственный мед знаний, мудрости и печали, а готовый фабричный продукт, для удобства потребления расфасованный по двухсотграммовым банкам, — вот что такое были для мужа вечерние беседы с Костей...
И Денисов с веселой иронией относился к Костиным делам и занятиям. И даже когда все философическое, насмешливо называемое Денисовым высокой духовностью, связанное с плетением изысканных словесных кружев, с цитатами из авторов, читанных Цветковым в детстве, а большинством читающей публики открываемых лишь сегодня, стремительно начало входить в моду, Денисов устоял, моде не поддался, ни одна волна никаких захватывающих «всю Москву» увлечений, чаще, всего временных и неглубоких, не сумела его увлечь. Вынырнув, он мог бы благополучно отдаться следующей и так и плыть и плыть по жизни, читая, обсуждая, осуждая, то есть ничем не отличаясь от всех прочих, постоянно пребывать в состоянии комфортабельного чувства увлеченности тем, чем заняты и как будто бы даже «болеют» наиболее думающие, совестливые люди.
Нет, Денисов не давал себе труда притворяться, он относился не только отчужденно, но даже с некоторой брезгливостью, так чувствовала Таня, к тем поветриям моды на то или иное популярное духовное блюдо, которое жадно распробовали в тот момент многие его приятели. Однажды Денисов объяснил Тане, что это чувство внутренней отгороженности, неподдаваемость моде идут у него не столько от характера, сколько от семьи, из каких-то глубин, заложенных с детства. Вполне вероятно, пояснил он, это была генетика, или, как выражались в старину, порода. XIX и XX века русской истории были прожиты и пережиты его бабками, дедами, прадедами, и они выстояли, немало сделав для своей страны; кое-кто из них вошел в историю, скромно, одной строкой, среди тысяч других русских интеллигентов. А теперь их потомок и наследник стал всего лишь одним из миллионов малоизвестных научных работников, однако в границах ему доступного, вполне возможно нешироких границах, но его собственных, утверждал Денисов твердо, он старался оставаться самим собой, что бы ни происходило вокруг.
В позиции мужа было как будто бы свое достоинство. Проявлялась эта его позиция в пустяках и в серьезном. Так, Денисов никогда не торопился ничего посмотреть, не просил Костю ни о каких билетах, не бросался читать только что вышедшую книгу, не рвался непременно попасть на премьеру. И все это шло не от равнодушия, а от спокойной, казавшейся часто несовременной и даже примитивной убежденности в том, что каждый прежде всего должен быть занят своим делом и уметь делать его хорошо.
Так, история давняя, Денисов отверг, например, отошедшую теперь моду на иконы и все божественное в интерьере. Когда приятель Кости художник-реставратор предложил Цветкову задешево продать громадную икону и Костя повез их ее смотреть, Денисов посмотреть согласился, но, увидев на ярко-красной, масляно-окрашенной стене, примыкавшей к уборной, большую, почти до потолка, в золоченом окладе прекрасной сохранности богоматерь с младенцем, только взглянул на Таню, и им не нужно было ничего говорить друг другу. Денисов тотчас же отказался, несмотря на все Костины восторги: «Покупай, Валентин, интерьерная вещь, у тебя все стены в доме голые!» У них на Кисловском, куда они тогда недавно переехали, действительно были голыми все свежеоклеенные и потому выглядевшие необжитыми стены, только потом, с годами, все свободное пространство захватили книжные полки, а тогда Денисов и впрямь был озабочен проблемой интерьера, но, когда втроем возвращались домой и Костя продолжал удивляться, почему они отказались купить такую дивную вещь, может денег в связи с ремонтом нет, и предложил дать в долг, Денисов только раздраженно обронил: «Это неприлично!» Может быть, и в самом деле был в нем от природы заложен какой-то механизм, который точно знал границу того, что человек может себе дозволить?
Никакие насмешливые взгляды, ухмылки вослед, дружеские попреки в том, что Денисов ретроград и отсталый человек, не могли его сбить — Денисов только улыбался в ответ, продолжая оставаться равнодушным к тем ситуациям, в которые множество его приятелей включалось со страстью и вдохновением неофитов. Валентину — так, во всяком случае, он себя держал — было демонстративно безразлично любое о нем мнение, если это мнение не касалось главного — основных его занятий. Эта подчеркнутая поза в Таниных глазах нередко смотрелась вызовом Цветкову. Скорей всего, именно Цветков своим постоянным присутствием возбуждал у Денисова желание оттолкнуться от той, иной жизни; скорей всего, он даже бравировал этой своей позицией, в чем-то себя невольно обедняя, но, должно быть, у Денисова не было иного выхода. Как ни странно, нарочитая эта позиция с годами оказалась плодотворной: при полной внешней несвободе и повязанности домом, вечно набитым чужими людьми, Денисов сумел сохранить независимость от тех разноречивых и так быстро сменявших друг друга увлечений, которыми были заражены его многочисленные приятели. Или Тане все это лишь казалось? Возможно, она искала оправдания для того, что при желании так легко было бы назвать известной ограниченностью? Может быть, по своей вечной привычке усложнять, она и здесь облагораживала то, что вовсе не заслуживало столь сложных объяснений? Порой она думала, что увлечение мужа антимодой ничуть не лучше Костиного увлечения модой. Унижение паче гордости... был в поведении Денисова и этот оттенок, и то давнее его желание оставить оголенными стены в квартире, не лучше ли оно выглядело жалкого стремления заполнить их великомученицами? Голые стены вызывающе кричали о духовном достоинстве. Истинное достоинство обычно безмолвствует — вот что смущало Таню.
Что же стояло в итоге за поведением Денисова? Кто его знает. Важно лишь то, что для собственного душевного равновесия Тане необходима была именно такая гипотеза. От противного... С Костей, как Таня ни старалась, подобная гипотеза не проходила. Цветков постоянно примеривался к мнению о себе. Тане подумалось однажды, что этот кто-то, к чьему мнению Костя был так неравнодушен, была давно уже не Таня, и не его коллеги, и не студенты, чьим расположением Костя особенно дорожил, а некий фантом, то есть грандиозная иллюзия представлений о себе таком, каким он выглядит со стороны и каким ему вследствие этого следует пребывать, не разочаровывая понапрасну окружающих.
Персонифицированная группа, так принято было называть это явление в Таниной науке, стала хранителем и блюстителем устоев его жизни, устоев смешных, недавно возникших, не имевших за собой сколько-нибудь длительной культурной почвы, земли, основы. На этой недавно намытой самыми разными веяниями земле Косте хотелось играть роль Учителя. Тем самым эта роль тоже превращалась в фантом. Наставник, Мастер в средневековом, старонемецком смысле этого слова, что-то от Гёте, Томаса Манна, от ушедшей в прошлое высокой европейской культуры, поддерживаемой лишь немногими счастливцами из тех, кто способен вкушать ее плоды, хранитель квинтэссенции духа человеческого... Мастер, Избранник, со всей традицией поклонения, благоговения и авторитета, которые связаны в нашем представлении с этими словами.