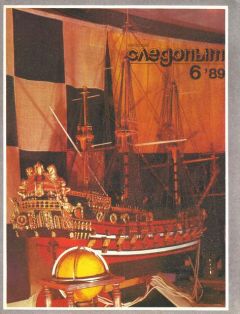Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
— Ты права, Глафирушка! Мы верны своим мужьям, а верны потому, что бога не забыли, часто в храм божий ходим, — потупив глаза, поддержала свою подругу Дарьюшка.
— И я такого же мнения о Катьке, — подхватила Глафира. — Стоял у входа в зал заседаний дубовый стул, а теперь убрали и на его место поставили, представьте себе, золотисто-бархатное кресло. Говорят, его лично на себе принес Малаховский. Социалист, а подлизывается…
— Он недурен собой, вот и надеется, что миллионерша снизойдет к нему.
— А почему и нет, когда у нее бесстыжие глаза…
Наговорившись в управе, гласные разъезжались на рысаках по домам и, плотно поужинав, рассказывали в сотый раз почти одно и то же своим женам — как они целовали руку Екатерины Ивановны. Жены, округлив глаза, жадно и завистливо слушали, вспоминали имя божье, крестились, плевались и сокрушенно шипели:
— Срам один.
— Груди напоказ, жирные.
— Господи, как срамница…
— И вы, именитые купцы, прикладывались…
— А как же быть, ежели все?
— А я бы плюнула в ее сало!
— Плюнешь и попадешь себе в бороду.
Прополоскав косточки Екатерины Ивановны, купцы говорили, жаловались, вздыхая:
— Мужик обнищал, оскудел, ничего не покупает.
— Мужик не оскудел, а немцы торговым договором задавили.
— В этом и несчастье России!
Обедали в купеческих домах ровно в два часа дня; после сытного обеда и сладкого послеобеденного сна на пуховиках, которые, перед тем как завалиться на них, горничные или же кухарки сбрызгивали одеколоном и духами, чтобы они, пуховики, не пахли по́том или какой-нибудь сыростью и прелью, отдающей запахом глины. В половине пятого купчихи просыпались, степенно, с достоинством, с неторопливой молитвой усаживались за столы, на которых, сияя беловатой медью, приветливо и весело кипели ведерные самовары, пузатились вокруг них позолоченные чашки, громоздились на тарелках ватрушки и с разными начинками пирожки, и приступали со всей деловитой серьезностью к чаепитиям.
Такой же порядок был установлен и в доме Марфы Исаевны Тулиной.
VIII— Матушка, Семеновна, что же вы не берете варенья-то? Без него чай не чай, — опорожнив чашку и наполняя снова чаем, промолвила все еще сонным голоском пожилая, круглолицая, толстогубая, с бородавкой на подбородке и малиновым носом хозяйка.
Я, пока отдыхала на воздушной перине Тулина, на широкой и длинной террасе покрывал коричневым лаком стулья и кресла, — стучать и пилить мне не разрешалось, чтобы не потревожить ее послеобеденный сон. Я только начинал столярничать — доделывать буфет — в тот час, когда Тулина садилась со своими близкими знакомыми за стол, за долгое чаепитие. Тулина, разговаривая с Семеновной, не только не стеснялась вывертывать наизнанку своих соседей и знакомых предо мной, но, как казалось мне, совершенно не замечала меня. Марфа Исаевна, сказав это, бросила взгляд на окно, выходившее через террасу в тенистый сад, где в зелени и в белом цвете вишен и яблонь стоял птичий гам, частила металлическим говорком сорока, отрывисто каркала ворона — она как бы выполняла роль баса в звонком, заливистом птичьем хоре. Тулина отвернулась от окна, уставилась на Агафью Семеновну Зазнобину и собралась что-то еще проговорить, но та, поймав на себе взгляд благодетельницы, опередила:
— Как же, как же… благодарствую, Марфа Исаевна, выпью и с вареньем. Какое оно у вас?
— Вишневое. Хотя и прошлогоднее, но на вкус такое, как бы только что сваренное, — похвалила Тулина.
— Сами варили?
— Кухарке не доверяю, всегда сама, своими ручками.
— Не говорите! Ручки у вас, благодетельница, золотые, — изобразив на длинном рыжеватом лице удивление, Зазнобина прошелестела тонкими сизовато-шелковыми губами. — Да, оно у вас всегда на диво… — и положила варенья на фарфоровую розетку.
— Все, кто бывает у меня в доме, хвалят варенья. Сама Екатерина Ивановна, супруга городского головы, у меня чай кушала.
— Да ну! Неужели была?
— А почему бы ей, Семеновна, не быть у меня, а? — вскидывая рыжеватые брови, спросила с обидным возбуждением Марфа Исаевна, и ее малиновый нос вытянулся — принял форму клюва. — Была, была… и так душевно разговаривала. А когда собралась домой, взяла баночку вишневого. Да, да, обошлась со мной запросто, как с равной: будто и я для нее, как и она, миллионерша.
— Благодетельница моя, вы не так поняли меня, — испуганно и умоляюще пискнула Зазнобина, зыркая угодливо-влажными, как бы плачущими глазками, готовыми выскочить из орбит и покатиться шариками по синевато-белой скатерти.
— Я все поняла, — смягчаясь, возразила хозяйка, и нос ее принял естественную форму.
Зазнобина успокоилась, налегла на чай и ватрушки.
— Славное у вас, благодетельница, варенье; такого варенья, скажу я вам, в нашем городе ни у кого нет.
— И я так думаю, — ответила Марфа Исаевна и поджала толстые губы.
— И ватрушки вкусные, пышные — тают во рту. С вашего разрешения, благодетельница, я еще положу вишневого и возьму ватрушечку.
— Что за разговор, Семеновна… Кушайте без черемония! Мне ничего не жалко. И на стол ставлю для того, чтобы кушали.
— Дочку еще не просватали? — вонзив желтые зубы в ватрушку, спросила Зазнобина.
— И-и? Это Лидочку-то?
— Ее, благодетельница моя, ее.
— Зимой наклевывались женихи, да… не подошли, какие-то жидкие, а денег, прощалыги, просят уйму.
— Своих не нажили, вот и просят, — ввернула со вздохом Семеновна. — Ежели попадется хороший, серьезный жених, — денег, благодетельница, не жалейте. А прощалыг — в шею!
— Серьезных, матушка, не было, навертывались одни ледащие. Им не девка нужна, а деньги да сундуки с нарядами.
— А за сынка, Сереженьку, не присмотрели? — вонзив зубы в четвертую ватрушку и закатывая глаза под лоб, спросила Семеновна.
— Приглядела, приглядела… и родители ее согласны… и немало денег дают. Завтра бы Сереженьку и под венец.
— И не медлите, благодетельница. Куйте железо, пока горячо.
— Я бы, Семеновна, не промедлила, да ведь Сереженьке трех месяцев не хватает до совершеннолетия.
— А вы, благодетельница, с протопопом собора поговорите. Он для вас все сделает.
— Говорила, Семеновна, на пасхальной неделе говорила, когда он был у меня с иконами и обедал.
— Ну и что же?
— «Нельзя, — сказал протопоп. — Ваш Сереженька молод, он еще в бабки с ребятами играет».
— Фу, длинноволосый черт! Это он, как слышала я, свою старшую дочь метит за вашего, благодетельница, сынка.
— Этому, Семеновна, никогда не бывать! Об этом я наслышана, — собрав на лбу сердитые морщины, отрезала Марфа Исаевна.
— Еще бы, такую квашню и — за Сереженьку. А сколько, благодетельница, невесте-то годков?
— Двадцатый переступил, только-только что, — ответила хозяйка и, вздохнув, пояснила: — А какая, скажу я вам, скромница… В городской сад — ни-ни; вечера у окошка проводит и, глядючи на моего Сереженьку, играющего в бабки с ребятами, иногда и рассмешит меня: «Марфа Исаевна, вы б Сереже штанишки подлиннее купили». И зальется, разольется рассыпчатым, как колокольчик, смехом. И я, слушая ее смех, не вытерплю — рассмеюсь.
— Да чья же эта красавица дочка?
— Алексея Федоровича Бородачева.
— И-и? Наслышана, наслышана, благодетельница моя, о ней: большая умница, серьезная такая. Да и капитал у ее папаши немалый: три дома на главных улицах, четыре булочных магазина. И одевается она как королева. Надо не медлить со свадьбой. Суньте сотенки три-четыре в руки протопопу — и он обведет вокруг аналоя, женит в один миг Сереженьку. Он деньгу любит, какая легко плывет ему в руку, это я знаю.
— Жалко, но придется сунуть.
Солнце село, пепельно-синие сумерки влились в открытые окна, сад потемнел, и из него острее потек в комнаты сладковатый запах яблоневого и вишневого цвета, защелкал соловей за Красивой Мечой, что плескалась за садом, выплыл оранжевый диск месяца, и мне показалось, что он медленно поплыл куда-то вместе с садом. Вошла Лида, на ней кремовое платье; она пухленькая, курносая, но приятная (такой была в молодости ее маменька). Она поздоровалась с гостьей. Та поднялась и, сладенько улыбаясь, чмокнула совочком губ молочно-розоватую щеку девушки, прошелестела, оценивая ее знающим взглядом:
— Ну прямо писаная красавица, первая в городе.
— Первая ли в городе, этого я не могу сказать… но на нашей улице, пожалуй, такой пригожей, как моя Лидочка, и нет, — ответила со скромной улыбкой хозяйка, чрезвычайно польщенная словами Семеновны.
Разговор о Лидочке, ужасно покрасневшей и смутившейся от похвал матери и Семеновны, они, возможно, и продолжили бы, если, бы не появился в эту самую минуту Сереженька. Он вошел вразвалку, небрежно. Одно плечо у него выше; вошел боком, как бы неохотно. Заметив Зазнобину, остановился, прогудел натужливым басом: