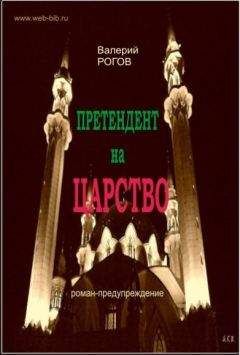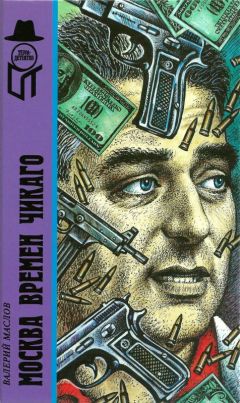Валерий Рогов - Нулевая долгота
Ветлугин кивнул. Он мял сигарету.
— Кури, не стесняйся, — сказал Взоров.
— Нет, я, пожалуй, покурю в холле, — подавленно произнес он.
— Ну, как хочешь.
Взоров достал из письменного стола гостиничную бумагу с именем отеля, адресом и номерами телефонов, уселся в деревянное кресло с подлокотниками, задумался…
Ветлугин же, сидя в низком мягком кресле в просторном притемненном холле, глядя непонимающе в приглушенный телевизор с дрыгающимися безголосыми певцами какой-то рок-группы, жадно куря сигарету за сигаретой, в подавленности думал, что действительно все может случиться. Взоров зря не станет предупреждать, а значит, если он, Виктор, не позовет врача, то, может быть, всю жизнь будет себя казнить. Но в то же время, понимал он, нельзя не подчиниться его воле — ведь это право каждого человека распорядиться собой так, как считает нужным. Более того, Взоров ему не простит, если он все-таки проявит, так сказать, инициативу… Ничего не решив, минут через десять Ветлугин вернулся в номер.
Взоров как раз перечитывал исписанный наполовину листок, сложил вчетверо, засунул в конверт, тоже с именем отеля, адресом и телефонами; послюнявил, заклеил, протянул Ветлугину.
— Это на самый крайний случай, — улыбнулся устало, задумчиво. — Надеюсь, что не понадобится, но одна просьба там очень существенная. Считай, это мое завещание.
— Федор Андреевич, — взмолился Ветлугин, — давайте я все-таки вызову доктора.
— Решили, — недовольно, с жесткостью в голосе произнес Взоров. — А теперь расстанемся. Предупреди, чтобы не тревожили утром. Объясни Дарлингтону и Джайлсу, не пугая, что чуть приболел и не смогу быть на заседании исполкома, но вечером обязательно хочу повидаться, прежде всего с Джоном и Эвелин. Тебя жду, ну, скажем, в два часа. Договорились?
— Хорошо, Федор Андреевич.
— Ну, а теперь давай свои таблетки.
— Я их положил на ночной столик.
— Вот и ладно. Ну, прощай и не печалься.
— До свиданья, Федор Андреевич.
Взоров пристально взглянул в глаза крестнику, опять устало улыбнулся и опять похлопал его по плечу — слегка, по-отечески.
— Все будет хорошо, Виктор, вот увидишь, — сказал уверенно, с той силой убеждения, какую умел внушать всем, кто его близко знал.
VВзоров, оставшись в номере один, прочел краткую инструкцию к приему снотворного — она ничем не отличалась от той, которой поляки сопровождают свой «реладорм»: по настоянию Лины он именно им пользовался в последнее время. Таблетку рекомендуют принять за час, по крайней мере, за полчаса перед сном и гарантируется успокоение, а при пробуждении свежая голова. Он решил принять полторы таблетки.
Раздеваясь, Взоров думал о том, что правильно сделал, написав завещание — «на всякий случай…». Однако теперь он был уверен, что здесь, в Лондоне, оно не понадобится — «все будет хорошо…». Он чувствовал анемичную ватность в груди, но э т о не беспокоило его: на два дня он соберет в кулак всю свою волю и, что нужно, свершит. Он уже знал, что докажет свою правоту тем, кто в Москве сомневался в необходимости этой поездки. Здесь же найдет самые точные и доходчивые слова, чтобы, если не убедить, то хотя бы смутить тех, кто сомневается в миролюбии СССР. Он уже верил в успех, и эта вера лечила и успокаивала его, пожалуй, больше, чем лекарство.
Лежа в постели в полумраке, — в окне зыбко дрожал многоцветный отсвет названий отелей и баров (это была сплошь гостиничная улица), и постоянно пульсировали, как накатные волны, лучи автомобильных фар, — Взоров все-таки чуть тревожился, что непоправимое (мы всегда невольно ищем синоним смерти) может случиться, и он не проснется. Но эта малая тревога не возбуждала сердце к бешеному колотенью, наоборот, оно как бы отсутствовало в вязкой ватности груди. А потому он спокойно ждал, когда снотворное отключит сознание: в любом случае он сделал все, что следует, даже написал, чтобы его похоронили там, где он поставил пирамидку Мите, то есть на прицерковном кладбище под Изварином. Он никогда раньше об этом не думал, наверное, потому, что так крепко еще никогда не прихватывало. Но он был доволен, более того, рад, что теперь знал, где у п о к о и т с я.
Жизнь его была при всем внешнем благополучии внутренне нескладной. Он жил, как и большинство его поколения, в скрытой раздвоенности между собой истинным, своими убеждениями, и тем, каким он должен был казаться другим, каким его хотели видеть, да что там! — каким требовали, чтобы он являл себя. А в последние годы раздвоенность эта углубилась, когда он оказался в подвешенном состоянии — между семьей, которую д о л ж н о с т ь запрещала ему оставить, и любимой женщиной. Цельным же он помнил себя только в те Митины годы, и теперь был тайно рад, что именно туда, к нему вернется. И потому Мите, лежа в гостиничной лондонской постели, он требовательно и наставительно, как всегда между ними было, говорил: «Подожди. Разве не понимаешь, что мне надо еще задержаться? Куда я денусь? Ясно же, что приду…»
Знаешь, о чем в таких случаях напоминают себе англичане, — «Should auld acquaintance be forgot, and auld lang syne?»
— «Разве забудется старая дружба и все, что с нами случалось?» Это из Роберта Бернса, а на его слова, брат, до сих пор простым людом поются песни — и в застольях, и на митингах, и на собраниях. Это он призывал: «We’ll tak a cup o’kindness!» — «Наполним чашу добротой!» Да, Митя. Подожди немного…
Но Митя, стоявший перед его глазами в заношенном студенческом костюме с распахнутым воротом рубахи, выложенным на пиджачный воротник, в обширной кепке и белых парусиновых туфлях, почему-то грустно молчал. И это его неодобрительное молчание, нежелание ждать возмутило Взорова. Он даже как бы отвернулся от него, вроде бы даже обидевшись, и принялся вспоминать тот теплый майский день, когда впервые за долгие годы — «за десятилетия…» — вернулся на и х печальное поле.
Вокруг церкви разрослась березовая роща — «что ж, с того холодного рассвета прошло более трех десятилетий…». Малые березки кривились и по толстым кирпичным стенам, а из провалившегося купола стройно тянулась одна, вся трепетная в своей малахитовой зелени и как бы торжествующая над скособоченным крестом. Меж белых стволов кладбищенской рощи темнели гранитные камни за черно-голубой вязью оград, редкие кресты и пирамидки с красными звездочками. Все было обновлено после пасхальной недели, и кладбище казалось живым, как трепетные кроны берез. Взорова поразило, что оно так стремительно разрослось, наступая на обветшалое Изварино, захватив чуть ли не половину т о г о снежного поля — заброшенного по нынешним временам, цветущего разнотравьем.
Он бродил вокруг кладбища, пересекал его по кривым дорожкам в надежде отыскать обелиск в память погибших здесь ополченцев, зная, что почти вся их дивизия, срочно сформированная в начале октября, была именно здесь, на Соквинском рубеже, смята немецкими танками, погибла от бомб и артобстрелов, от пулеметных и автоматных очередей — «потом, чуть позже, после них с Митей…».
Он отыскал в густом травостое, на самой границе подступившего кладбища, два округлых углубления и в печальном волнении определил, что именно в этих точках легли два снаряда — «в сорок первом…». Он опустился на корточки в Митиной воронке, и его голова сравнялась с многоцветьем; потом лег на спину по удобному мягкому наклону, заложил ладони под затылок и смотрел в голубое солнечное небо и, казалось, ни о чем не думал. Но он, конечно, думал и, конечно, о Мите, которого уже столько лет нет на земле и о котором он так редко вспоминал…
А тогда, именно в тот год, у него начался разлад в семье — с женой, взрослыми детьми; уже появилась Лина, любовь к ней, может быть, первая истинная любовь. Но в тот солнечный полдень он не думал и об этом, видно, потому, что ему ничего не помнилось потом, кроме неба, кроме сладостного покоя в травяных дебрях, в которых, к своему удивлению, он обнаружил энергичную суетливую жизнь, такую же, о чем ему подумалось и запомнилось, — «как у людей…». Осы и шмели пикировали на красновато-сиреневые шары клевера; самолетиками налетали стрекозы, с торопливой радостью присаживались на качкие площадки солнцеподобных ромашек и раскачивали, раскачивали тонкие стебли, рассыпая слюдянистыми плоскостями трепетное сверканье. Какой-то черный жучок деловито полз по мохнатому стеблю колокольчика и нырял в синеву раструба, копошась среди тычинок. Живыми цветками порхали бабочки — «откуда такое обилие красок? такая привередливость рисунка? такая нежность?..». Сияло, лучась, солнце в бездонном небе, и невозможно было смотреть ввысь. Лучи жарко грели лицо, и глаза сами собой закрывались, и он только помнил, что заснул так спокойно, будто растворился — в теплыни, воздухе, земле, травостое, солнце, букашках; будто сладостно и счастливо перевоплотился в вечное.