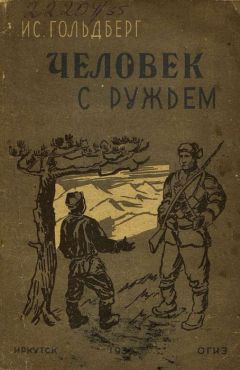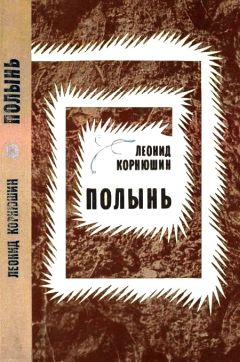Исаак Гольдберг - Сладкая полынь
Утром, еще покуда не пришел к завтраку Павел, она говорит крёстной:
— Я, крёстная, так думаю: сама я себе хозяйка! Своей волей живу. Пущай люди свои беды расхлебывают, я сама со своей управлюсь!..
Арина Васильевна молчит. В ее глазах испуг и неодобрение.
17.Мимо верхнееланских полей, мимо бурых, зеленых, черных и золотых лоскутов земли дорога ведет в волость, в деревню Острог.
Летняя дорога пустынна. Летним зноем прибитая, лежит спокойно дорожная пыль.
На полях разноцветными пятнами движутся люди. На полях неустанно и скоро кипит работа. И когда на свороте дороги вырастает облако пыли и из облака этого выносится тарахтенье телеги, люди с косами, с серпами, люди у борон, с тучами мошки над головами на мгновенье приостанавливают работу, оборачиваются в сторону ожившей дороги и глядят.
Усталая мухортая лошадь тащит телегу, на которой вразвалку полулежит мохнатый, бородатый мужик. Лошадью правит мальчонка в картузе, картуз мальчонке налезает на глаза, мальчонка грязной рукой все время поправляет его и по-взрослому, солидно и строго, покрикивает на лошадь.
Лохматый мужик навеселе, завидя поля, людей на полях, кладет тяжелую руку на детское плечо и кричит:
— Стой!
Мальчонка натягивает вожжи, останавливает лошадь и поправляет картуз.
Вылезая из телеги, мужик опускает на землю ноги, обутые в старые рыжие солдатские башмаки с истрепанными обмотками, и ухватывается тяжело одною рукою за передок. На земле мужик стоит не твердо и когда идет к ближайшим, приостановившим работу людям, то пошатывается и прихрамывает: пошатывается оттого, что выпил, хромает потому, что одна нога — правая — слегка согнута в колене.
— Здорово, пахари, работнички! — кричит он весело и озорно: — Потеете?!..
Подошедшие к дороге, разглядев приезжего, махают руками и насмешливо отвечают:
— Здравствуй, здравствуй!
— Это опять, значит, ты, Архип?
— Снова чертомелешь?.. В самую, что есть, рабочую пору гулянку заводишь?..
И люди уходят обратно на поля, к серпам, к лошадям, к работе.
Архип глядит на них, смеется. Широкое лицо, заросшее грязной бородою, кривится от смеха, белые зубы молодо блестят, пряди грязных курчавых волос сбегают и дрожат на морщинистом темном лбу.
— Хлебушко жнете? — кричит он полям и людям. — Землю-кормилицу зорите?! Ладно, пожалуйста, с полным удовольствием! Жарьте!.. Жарьте, елки-палки!
Люди возвращаются к работе, люди не слушают лохматого, хромого мужика. Мальчонка налаживает замызганную рваную шлею на лошади и все поправляет картуз.
Архип умолкает на мгновенье, смех тает на его лице, изумленная обида растягивает его губы и кривит их.
— Молчите?! — горестно изумляется он и широко взмахивает руками. — Вам Архип Степаныч Ерохин, партизан пострадавший, привет делает, а вы морды сытые воротите? А?!.
Мальчонка залезает в телегу и деловито прерывает мужика:
— Едем, чо-ли, тятька?
Архип поворачивает к нему огорченное лицо и вежливо и просительно говорит:
— Василий Архипыч, погоди! Обожди, пожалста. Дай мне этим бестолковым всюю правду выяснить. Всюю правду-матку...
И, внезапно свирепея, подается туда, в сторону работающих людей:
— Обормоты! Храпы!.. С чего рыла-то воротите?! Кто вам землю-то эту приспособил? Кто от белых, от колчаков отбивал? Я — Архип Степаныч Ерохин, партизан, воитель!.. А кто, елки-палки, кровь проливал за эту саму землю? — Я!.. Из ваших верхнееланских, окромя Ксенки, а кто бил колчаков?! Едрена шишь!.. Теперь хозяевами полными стали, зарылись... А у меня всюю нутро отбило, ногу и руку покарябало. У Ксенки очка нет, спорчена баба, а вы на готовеньком?! А?.. С вами Архип Степаныч Ерохин, партизан, здоровкает, а вы не желаите!? У, обормоты!..
На полях, на золотых и черных лоскутьях земли движутся люди; работают. Слышат Архипов крик — и молчат.
Мальчонка подбирает веревочные размочаленные вожжи и, встряхивая головой, кричит Архипу:
— Залазь, тятька! Будет. Поеду я. Хватит тебе орать-то.
Сразу опадая, срываясь с голосу, Архип умолкает и неловко лезет на телегу.
Мухортая лошадь испуганно трогается, телега тарахтит. Облако пыли плывет за нею.
Над полями, над землею тихий зной.
18.Приходит день — хлеб свезен на гумна, сено сметено в зароды, обведено остожьями, ночи становятся ясными, темными и звонкими, как тугое стекло.
Приходит конец страде, и уже подает о себе знаки осенняя пора золотом пажитей, бурой, но еще уветистой и сочной зеленью хребтов, ранним звонким лаем собак на заре, кудрявыми султанами дыма над темными крышами.
Павел увязывает свой узелок. Новые ичиги, рубаху и немного денег — свой заработок готовится унести он отсюда. Работа кончилась, теперь снова нужно возвращаться в город, снова бродить по улицам, опять искать.
Павел озабочен и молчалив.
Ксения стоит возле печки и смотрит на него, и думает. Она следит за его неторопливыми движениями, она видит его загоревшую шею, золотящийся затылок, согнутую спину. Заметив прореху на его рубахе, она оживляется:
— У тебя, Павел, в городу-то кто есть?
— Никого у меня там нет, — не оборачиваясь отвечает Павел: — я там чужой!..
Ксения молчит и снова думает. И снова после некоторого молчания.
— Коли никого там нету, туго, поди, тебе придется?
— Пожалуй, — пожимает плечами Павел. — Хлебну мурцовку. Ну, все-таки окреп я на твоих хлебах, теперь легче будет работенку искать...
Узелок завязан. Павел выпрямляется, пробует приладить его за спину и встречается взглядом с Ксенией. Она ловит его хмурую улыбку и, подавшись вся к нему и открывая пред ним свое лицо — глубокий сверкающий единственный глаз и безобразный шрам — тихо говорит:
— Оставайся, слышь, Павел, оставайся!..
И с погасшим порывом прибавляет тише:
— ...Ежли не обрыдно тебе со мною...
Павел складывает узелок на табуретку, подходит к Ксении вплотную.
— Мне бы тебе сказать нужно...
Но она перебивает его, что-то отгоняя и от себя и от него:
— Ты ничего не говори. Не надо!.. Ты только по правде: ежли не обрыдна я тебе, оставайся!..
Павел остается.
19.К Покрову ждали снега. Такое поверье у народа, что на покров богородицы обязательно земля, уставшая от родов, должна укутаться белым полотнищем снега. Но с утра небо стояло ясное, глубокое, и усмиренное осенними ветрами солнце светило ярко и неомрачимо. Земля щетинилась жнивьями, желтые поляны сбегали с угоров, черными спутанными сетями громоздились тальники и черемушники возле Белой Реки. У берегов звонкие льды прикрывали студеную и ясную воду. Осень взмахнула обезувеченными крыльями своими, дрогнула, застыла. И вот-вот должен был просеяться первый пахучий, некрепкий и ласковый снег. Должен был, но не просеялся, не пал на землю, не укрыл ее.
К Покрову отпросился зачем-то Павел у хозяйки, у Ксении, в город.
Ксения, отпуская Павла, встрепенулась, подавила в себе мгновенную тревогу, но спокойно сказала:
— Поезжай. Коли не надолго, без тебя управимся.
Павел уехал.
Арина Васильевна подглядела за Ксенией, помолчала. На второй день за ужином мимоходом бросила:
— Без Павла чтой-то скушно.
— Какое тебе веселье надобно? — нахмурилась Ксения.
— Все, коли-быть, мужик в доме. Вечера ноне долгие становятся, не так сумно с мужиком-то.
Ксения промолчала и отвернулась.
На пятый день Павел вернулся.
Когда он, после полудня, вошел во двор и добродушный приветливый лай Пестрого отметил его возвращение, Ксения стояла на поветях. Она увидела Павла и вся поддалась вперед, и внезапно обессилела. Ноги задрожали у нее, и она опустилась на пахучее, душистым холодком веющее сено.
Павел, не заметив ее, вошел в избу.
Ксения отдышалась, отошла. Лицо ее зарумянилось, глаз сверкнул радостно. Она поправила платок на голове, спрыгнула легко и ловко с поветей, отряхнула юбку, мгновенье постояла. И пошла. И в это мгновенье, пока стояла она, прежде, чем пойти в избу, улыбнулась она широко и светло, улыбнулась радостным и легким мыслям своим, которые, наконец, пришли к ней.
В избу вошла она спокойная и приветливая.
— Вернулся, гулеван? — певуче сказала она.
Вместо Павла, поспешно и охотно ответила крёстная:
— Вернулся, вернулся!
Ксения помрачнела и сердито взглянула на старуху. Но ясным снова стало ее лицо, когда услыхала она веселый и бодрый голос:
— Вернулся!.. Здравствуй... Хотел я управиться раньше, да не вышло.
— Что-ж... тебя не неволили, мог и дольше пробыть...
Павел поглядел на Ксению, отвел глаза в сторону.
— Мне в городе-то не очень сладко... Тяжело там. Кому, может, и хорошо, только не мне.
— Трескучая жизнь в городу-то! — всунулась крёстная: — Пошто это они тама все суетятся так?