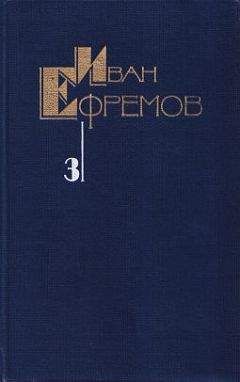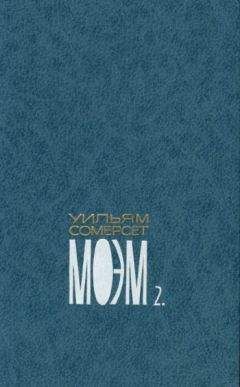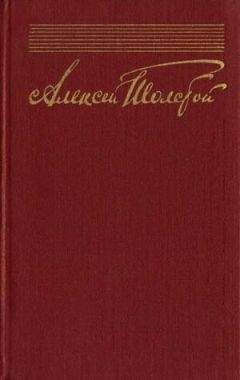Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 2.
— Заходи!
— Товарищ Чубатов! Доброволец какой-то…
— Давай его сюда.
Андрей вошел, по-военному отдал честь, остановившись за три шага от стола, и доложил:
— Доброволец Богучарского полка, Вихров. Прибыл вчера из госпиталя, по чистой. Сегодня отнял коня у бандита и прибыл верхом.
— Стой, стой! У какого бандита?
— У Ноздри.
— У Ноздри! — воскликнул секретарь волкомпарта. — Да как же это ты?
Когда Андрей рассказал, секретарь несколько минут смотрел на него удивленно, а потом раскатисто захохотал:
— Ноздря!.. Васька-бандит с ума сойдет от матерщины… Умора! «Кувшин золота»! Самогонку сидит ждет, скотина!
Потом встал из-за стола и подошел к Андрею.
— Ну, будем знакомы: Чубатов Тихон. Садись.
Андрей рассматривал секретаря волкомпарта. Чубатов, уроженец Козинки, был матросом, уже несколько лет не плавал, но бескозырку с ленточкой продолжал носить. Вышитая кремовая рубаха была расстегнута и обнажала татуировку. Стоял он, расставив ноги, в черных брюках-клеш, широкий, среднего роста, прочно сбитый, и смотрел прямо на Андрея, как давно знакомый, улыбаясь округлым лицом. Глаза у него задорные и умные. Весь он казался каким-то спрессованным. Таких не собьешь с ног. Правду говорят: у матроса четыре ноги.
— Мамонтова бил? — спросил он.
— Бил.
— Очень хорошо. Краснова бил?
— Бил.
— Очень хорошо! Деникина бил?
— Бил.
— Оч-чень хорошо!!! — И он хлопнул Андрея по плечу так, что у того остро кольнуло в больном боку. — Вот, браток, теперь кучумов надо бить разных. И тогда — все. Как ты думаешь?
Андрей некоторое время не отвечал, а потом, как бы в раздумье, сказал:
— А я на землю хотел. Отвоевали, мол. Вот тебе и отвоевали… А чем бить? Где оружие? С кем бить? Они-то мелкими отрядами от любой армии уйдут. А мужики боятся. Кто пойдет бить? Мужики не пойдут.
— Э! Да ты, браток, как тыловик. А сейчас тыла нет — фронт кругом. Мужики пойдут, — твердо сказал Чубатов. — Сейчас разверстки нет, хлеб есть, бандиты грабить будут, так что мужику они не с руки. Даже середняк пойдет — посмотришь! Да ты постой, постой: ты член партии? — спросил Чубатов и уперся в Андрея взглядом.
— Нет.
— Да ты, браток, с ума сошел! Как же так: бил, бил и — не член партии? Дома кто есть?
— Никого.
— Ой какой ты несуразный! Беднота, всех бил, кого надо, и — не член партии. Не постигаю! Право слово, несуразный…
— Да вот, совсем было собрался вступать, а потом ранили. Может, считают убитым. А потом в госпиталь. Лежу, бывало, и думаю: куплю лошадку да и захозяйствую на земле помаленьку. А оно, выходит…
— Понимаешь, а волынишь! — рубил Чубатов.
— Так не агитируют. «Волынишь»!
— Знаешь что: пошел-ка ты… с агитацией. Пойдем-ка ко мне обедать. Тебе ж Ноздря не дал… Кстати, сегодня заседание волкомпарта: побудешь там.
— Куда же мне теперь? Больше некуда, — подвел итог разговору Андрей.
— Ясно: больше некуда и больше не с кем, — весело подтвердил Чубатов.
…Вечером Андрея Михайловича Вихрова, добровольца знаменитого Богучарского полка, как «проверенного в боях и предъявившего о том соответствующие документы», приняли в партию большевиков без кандидатского стажа.
А в полночь он сидел с Чубатовым в его кабинете. Говорили они об организации отряда самоохраны. Свои указания Чубатов называл «инструкциями». А выдумывал он их здесь же, сам, без каких-либо указаний свыше, но при горячем участии и содействии того, кому они давались. Как только собеседники приходили к какому-либо решению, Чубатов заключал:
— Вот. Это тебе еще одна моя инструкция. — А на прощанье сказал так: — Живи пока тихо. Не попадайся им на глаза, скрывайся. Готовь людей тихо: так, чтоб — ни звука. Работай ночами. День спи. Подготовишь людей, дадим оружие.
Коня Андрей оставил в волости — не нужен пока и некуда девать, да и скрываться пешему лучше. Глубокой ночью он пошел в Паховку, уверенный и уже спокойный. Он знал, что надо делать.
С того часа, как он встретился в степи с Федором и Ваней, прошло немного более суток. И вот он снова в степи, исхоженной вдоль и поперек еще мальчишескими босыми ногами. Но в эту ночь думы были уже не о покупке лошади, не о своем клочке земли, а совсем о другом. Надо было обмозговать, где скрываться днем и что делать ночами. Он еще раз мысленно отметил наиболее надежных людей, и среди них — двух парней, Ванятку Крючкова и Федьку Землякова.
В село он вошел через огороды около двух часов ночи. Наган, врученный Чубатовым, переложил за пазуху, для удобства: так в случае чего можно держать руку за пазухой и незаметно для другого быть готовым в любую секунду. Он тихо постучал в окошко Федькиной избы.
— Кто? — спросил заспанный женский голос.
— Свои. Федор дома?
— В ночном. А кто спрашивает?
Но у окна уже никого не было. Андрей Михайлович ушел.
В свою избу в эту ночь он тоже не заходил.
А за двором Андреевой избы всю ночь просидел в засаде Васька Ноздря. Только перед рассветом он ушел в Оглоблино.
Глава третьяСолнце в дуб не поднялось, когда Федька приехал из ночного домой. Он осторожно вошел в избу. На полу, на соломенном матрасе, спал брат Миша, на печке — восемнадцатилетняя сестра Зинаида. На столе, вымытом до желтизны, нехотя, спросонья, ползала муха. Кроме стола, двух лавок вдоль стен и одной деревянной кровати, ничего не было. Но все чисто, даже окна и подоконники выскоблены, будто наждаком. В бедности всегда трудно соблюдать чистоту в жилище, а мать Федора умела.
Она стояла у печки с ухватом в руках, в домотканом переднике, с засученными по локоть рукавами кофты, как всегда аккуратная, опрятная.
Федька присел на лавку и смотрел на мать.
Ей еще нет и сорока лет, но нужда уже избороздила смуглое лицо — три полоски поперек лба и лучики от глаз. И все-таки она еще стройная, сильная женщина. Взгляд ее всегда немного печальный, и она редко смеялась. Трудная жизнь досталась ей! Смолоду бросил муж, оставив троих детей. Билась с нуждой, мучилась… Мечтать было не о чем и не о ком, кроме детей и их будущего. Случилось само собою: вдовец Герасим присмотрелся к ней, и они поладили, полюбили друг друга. Но пожениться нельзя: первое — живой муж есть, второе — Федор заявил: «Из дома уйду, если будешь жить с Гараськой». Не мог Федор переносить этого «Гараську» — всегда ждал отца. Да и мать любила Федора больше своей жизни, не хотела обижать. А если и виделась с Герасимом, то только тайком. Поэтому-то их дом был полон недомолвок, недоговоренностей и одновременно большой, суровой, молчаливой любви.
Федька рано понял безотцовскую заброшенность. Этим дразнили ребятишки, это вызывало злобу на все и на всех. Жалость к матери смешивалась со жгучей ненавистью к Герасиму. Так и рос Федька, раздвоенный внутренне, отчаянный и, со стороны казалось, злой. За то и прозвище — Варяг.
Мать спросила его ласково, как всегда:
— Что-то нонче рано приехал, Федя?
— На рассвете трое бандитов рыскали по степи. Кого-то ищут. Мы сразу и уехали, пока лошади целы.
— А тебя кто-то ночью спрашивал.
— Кто? — насторожился Федор.
— Не сказал. Спросил и ушел. Голос-то вроде похож на Андреев, да ведь я его вряд ли узнаю — давно не видала.
— Нет, не он, — сказал Федька. — Его вчера видали; проскакал в волость. — А в мыслях решил: «Он. Значит, жив».
— Ну садись, выпей парного молочка, — предложила мать.
Федька сел за стол и увидел на лавке, рядом с собой… кисет. Гараськин кисет! Он резко встал, смахнул кусок хлеба со стола и выбежал из избы.
Мать недоумевающе посмотрела ему вслед. Потом подняла с пола хлеб, положила его на стол и только тогда увидела кисет. Она всплеснула руками и тихо заплакала. Заплакала над тем, что брошенная, с детьми женщина должна отречься от жизни, а она вот не сумела, не осилила себя; заплакала от жалости и любви к детям. Плакала тихо, без всхлипываний, о погибшей своей жизни.
Федька вышел во двор. Он злился на все: на избу, на курицу, что хлопотливо и надоедливо вертится перед глазами. На все! Прошел на гумно и лег около канавы.
Перед глазами голубое небо. Небольшие белые облачка плыли чуть заметно. Солнце начинало пригревать. Невидимо, в необъятной высоте, зазвучал колокольчиком жаворонок.
— Погодите: приедет отец! — сказал Федька.
Кому он так сказал? Никому. Себе сказал.
«Что же это отец-то не едет?.. А какой мой отец: как у Витьки или как у Володьки? Нет, наш другой — черный, говорят…»
Заснул Федька около канавы, подставив лицо солнцу.
До семнадцати лет Федька прожил без отца. Правда, видеть он его видел, но был в то время пятилетним и помнит плохо. Слышал, что у него своя слесарная мастерская, что изредка присылает матери деньги, как подачку нищему, а ее не любит и жить с ней не хочет: сам живет в городе богато, и рабочих-батраков пять человек, а семья здесь в бедности.