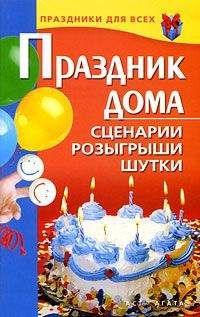Виталий Сёмин - Женя и Валентина
Любая рабочая удача его возбуждала. Свинтить ржавую гайку, которая не давалась его саперам, — этого ему было достаточно.
— Я тебе не рассказывал, — говорил он, — как я в первый раз машину повел. Послали нас из техникума на практику в первый раз. Но это ж так говорится — практика! Моя специальность — мосты, а работал я на строительстве горной автомобильной дороги: лес валил и вывозил. То грузчик, то экспедитор. Погрузим бревна на грузовик, сажусь к шоферу в кабину и еду с ним вниз, в поселок, бревна сдаю. Бревна длинные, на спусках и поворотах дорогу цепляют. А дорога — сплошные повороты. Вниз посмотришь — тошнит. И узкая — не разойтись. Не дорога еще — тропа. Один раз приехали с шофером в поселок под праздник, он куда-то исчез. Надо ехать назад, а его нет. Потом пришел пьяный и полез в кабину спать. Я его подсадил, забрал у него ключи, завел мотор и тронул. Восемнадцать километров той дороги было. А я не испугался — обрадовался, что он пьян. Я пока с ним ездил, внимательно следил, как он все делает, и был уверен, что сам так смогу. На следующий день он ко мне пришел в страхе: «Сурен, как ты не удержал меня? Это чудо, что мы с тобой живы!» Думал, что это он пьяный вел машину. — Сурен смеялся, а потом говорил, наивно удивляясь сам себе: — В самолете я ни разу не сидел. А знаешь, если надо будет, мне так кажется, что разберусь и полечу…
Жену и детей он отправил к родственникам в Ереван и беспокоился, как они добрались, удивлялся:
— Я ж там в первый раз в жизни в прошлом году побывал. Отец давно говорил: «Я уже старый, надо на родину съездить». Нормальные люди как делают? Садятся на поезд и едут! А я всю свою семью на своем самодельном автомобиле туда довез. Честное слово, — изумлялся Сурен, — мировой рекорд поставил. Столько людей на мотоциклетном моторе поднял на такую высоту, на такие перевалы! Когда мы к Еревану подъезжали, нас автоинспектор остановил: «Откуда?» — спрашивает. Я сказал. Он своему напарнику кричит: «Подежурь за меня! Дорогие гости приехали». Садится на свой мотоцикл и говорит нам: «Езжайте за мной, я недалеко живу, сегодня вы мои гости». Едва его убедили, что нам к родственникам надо. «Завтра поедете к родственникам». Обижался. Дал адрес: «Если не приедете, за кровную обиду считать буду». А мы так и не заехали к нему: отпуск маленький, родственников много. Сегодня у одного погости, завтра у другого. А тут и уезжать надо. Так он сам к нам в город приехал, два дня у меня жил. Свадьба тут была, его родственница замуж выходила. Смотрю, во двор к нам человек заходит — а я с машиной возился, — спрашивает: «Не узнаешь?» Я не узнал, а жена говорит: «Так это ж автоинспектор!» А он меня по машине узнал. Совсем, говорит, уже мимо прошел. «Смотрю, машина во дворе…»
Беспокоило его, что жена и дети не знают языка.
— Я сам такой армянин, что только в армии немного научился — нужда заставила. У меня ж в роте, — смеялся Сурен, — армяне, аварцы, кумыки. На сто человек семьдесят национальностей. Такое было мое счастье. Спасибо, старшина-азербайджанец четыре горских языка знал. У меня ж были такие, кто паровоз в армии в первый раз в жизни увидел. Один от паровозного свистка бросился бежать. Его военкоматовцы ловили, думали — дезертирует. А один совсем ребенок оказался. Старший брат у него умер, а родители, по обычаю, новорожденному дали имя умершего. И метрику на него новую заводить не стали. Парень рослый, в военкомате не сумели разобраться, с мобилизацией у них всегда сложности. Я и сам не сразу ему поверил. Но вижу — ребенок! Стал я докладывать, писать. А время идет, письма по инстанциям медленно переправляются. Год прошел. Я ему и говорю: все равно время уходит — служи! При себе его держал, работу легкую находил. Думал, отслужит — будет свободен. Школу такую пройдет! А тут, видишь, как получилось! Опять, наверное, в армию пошел. Как жизнь повернулась!
Рядом с заводоуправлением на асфальтированной аллее уцелела общезаводская Доска почета. Стекло было разбито, но фотографии еще держались. С фотографий смотрели литейщики, слесари, токари, техники, инженеры, профсоюзные работники, управленцы, сфотографировавшиеся в похожих двубортных пиджаках. Было несколько женских портретов. Фотографии подмокли и кое-где отклеились, подписи, сделанные черной чертежной тушью на полосках ватмана, расплылись. Но разобраться в них было еще можно. Мимо Доски почета проходили много раз и не обращали на нее внимания. Но однажды Сурен сказал:
— Надо бы фотографии снять. — И застеснялся. — До лучшего времени.
О том, что город еще в наших руках, теперь судили почти исключительно по тому, что в проводах есть электроэнергия, а по водопроводным трубам течет вода (следовательно, электростанция и водопровод еще не взорваны), но говорить о том, что здесь будут немцы, еще не решались.
— Семьи у кого-то, наверное, остались, — сказал Сурен. — Фотографии наведут на них беду.
Фотографии сняли, и Сурен сказал Жене:
— А тебя тут нет.
Женя засмеялся:
— Да я ж не очень передовой.
Сурен сказал с сожалением:
— Я тоже на такие доски не попадал.
Капитана Дремова, командовавшего стрелковой частью, звали Иван Власович. Это был кадровый военный. Вся его жизнь прошла в армии. Был он плотный, кругловатый, сильный, хотя и с одышкой. Громко командовать не любил. И говорил вполголоса. Чтобы его слышали, подходил совсем близко, становился, почти касаясь животом, смотрел в глаза и улыбался, будто любуясь. Говорил с придыханием: ах-ха! Много лет служил на Дальнем Востоке и на Севере.
Он был не въедлив, не зол, скорее добродушен, но осторожен. Когда заговаривали о том, почему отступаем, он уходил или делал вид, что не слышит. Прекратить эти разговоры он уже не мог. Спросят прямо — разведет руками и все так же доверительно смотрит спрашивающему в глаза: «Румыны, — говорил он, — я же и на румынской границе служил — они же плохие вояки. У них мундиры желтые и фуражки с углами. Пять углов на фуражке».
Или вдруг скажет:
— В органы сейчас много молодых набрали. Но ведь это дело такое… Тут не каждый сможет…
И замолкнет. Считает, что и это уже сказал неосторожно. Но не сказать не может — это у него затаенное. Жена его уже давно эвакуировалась вместе с дочкой. Они привыкли переезжать, но до сих пор ездили втроем. На Дальнем Востоке жена работала, а девочку смотрела интеллигентная старушка. «Хорошая старушка, — подтверждал Дремов, — очень честная старушка, никогда копейки не взяла. Сын у нее, правда… Ах-ха…»
Когда-то, солдатом, капитан Дремов был запевалой. Он и сейчас любил петь. Но пел плохо. Голос ему, должно быть, отказывать начал или слух. Над ним подшучивали. Он сетовал:
— Теперь молодые стали плохо петь. Песен тех не знают. А я, бывало, домой в деревню на побывку приеду. Выпьем, а потом затянем: «Конь вороной…» А? А как же иначе!
Заводские ребята его перебивают, кто-то подсказывает слова не той песни: «Ах ты, милая моя, я тебя дождался. Ты сама меня нашла, а я растерялся…» Он не сердится, не возражает. Пережидает, пока шутник угомонится. И продолжает свое. Называет новую нравящуюся ему песню: «Заседлаю я…» Песни он называет хорошие, слова, которые он помнит, тоже хороши. Правда, помнит он не много. Давно перестал быть запевалой, давно не жил в такой вот смешанной военно-гражданской обстановке. И оказалось, что он не подготовлен для таких разговоров, для такого обмена колкими репликами и даже вроде беззащитен тут, но и не озлился оттого, что эти штатские над ним смеются.
Он и фаталист немного. Такого навидался! Самых разных неожиданностей. И в приказах и вопреки приказам. И это всем заметно в его характере — и этот фатализм, и эта терпеливая улыбка. Он и по службе давно перестал продвигаться, и командовать научился улыбаясь и вполголоса. И молодые давно стали его теснить, а он только иногда пожалуется: «Мода пошла молодых набирать». И улыбается, ожидая реакции собеседника, — вдруг тот тоже над капитаном Дремовым подшутит, ответит каким-нибудь злым словечком. Но если и не ответит, Дремов ничего больше не прибавит. Скажет только: «Да-а!» И подышит собеседнику в лицо.
В технике подрывных работ он разбирался слабо. Так, кое-что выучил, когда приказали, но часто ошибался и предпочитал, чтобы техническую сторону дела брал на себя Сурен Григорьян. Сам он любил и понимал армейский порядок.
Каждый день он тщательно проверял, как уложены заряды, проходил по территории, которую вот-вот должны взорвать, на которую рухнет груда обломков от цеховых зданий, и заставлял бойцов подметать ее.
— Непорядок, — говорил он. — Это непорядок.
Над ним смеялись. Говорили ему, что все это будет под немцем, что все это вот-вот к чертовой матери взорвут. Пусть не смешит людей, пусть не создает солдатам лишней работы, пусть люди поживут спокойно. И поддевали носком сапога или ботинка банку из-под консервов. Но он заставлял бойцов и копался сам, брал лопату, отгребал мусор с асфальтовых дорожек, а остатки еды, окурки, выброшенные за порог или в окно, заставлял выметать подальше. Заставлял закапывать в стороне.