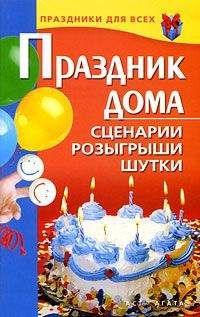Виталий Сёмин - Женя и Валентина

Обзор книги Виталий Сёмин - Женя и Валентина
Виталий Сёмин
ЖЕНЯ И ВАЛЕНТИНА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В воскресенье, 22 июня 1941 года, рано утром, Валентина собралась к своим на окраину. Еще до того, как выйти замуж, Валентина ушла от родителей в заводское общежитие.
Родилась она 7 ноября и в детстве всегда считала, что и красные флаги и иллюминация в городе ради нее. Потом, когда она подросла и отделила общий праздник от своего, все равно радовалась флагам больше, чем другие. В школе она была отличницей, и на ноябрьские праздники в школьной стенгазете ее поздравляли особо. На заводе она стала ударницей, и в заводской многотиражке ее поздравляли с праздником и с днем рождения. Теперь она уже никому не рассказывала, как знаменательно совпадает ее маленький праздник с революционным — стеснялась, — но все равно кто-то об этом узнавал, и в компании или на собрании поздравляя всех с праздником, ее поздравляли особо. И все оборачивались к ней, аплодировали, хоть на собрания не ходи. Но не ходить на собрания она не могла. Она и на сверхурочные оставалась охотно, и на воскресники выходила, и осуждала тех, кто уклонялся.
Она и замуж вышла за парня, который жил с полной нагрузкой — рабочей, общественной, спортивной.
И раздражалась она, выйдя замуж, потому что ее самостоятельность как-то обесценивалась. Муж никогда ничего не пытался ей запретить или навязать. Пожалуй, это она пыталась ему что-то запрещать. Она бросила спорт и хотела, чтобы и он тоже бросил. Она хотела, чтобы он ходил вместе с нею в институт, но в институт он не поступал. «Ты был бы счастлив превратить меня в свою домработницу!» — говорила она ему. Или: «Твоя мать тебя испортила. Она всех вас испортила. А вы на базар никогда не ходили, не знаете, сколько вашей зарплаты на один базар». Женя соглашался. Но Валентине этого было мало. Он просил ее: «Валя, слей на руки, я умоюсь». — «Набирай в рот воды и умывайся», — холодно отвечала Валентина.
На заводе она работала шишельницей, потом учетчицей, обедала в цеховой столовой, отдыхала в обеденный перерыв в цеховом красном уголке. Дышала воздухом, синим от металлической пыли, от газов расплавленного металла, сидела на металлическом табурете, в столовую поднималась по железным, приваренным к металлической балке ступеням, держалась за металлические перила. Здание цеха было высоким, с мощным вентиляционным устройством, но никакие вентиляторы не могли полностью откачать из воздуха пыль. Они только поднимали ее вверх, и весь потолок был плотно закрыт и закрашен пылью. Она нарастала там день за днем, месяц за месяцем. Там была уже особая, потолочная структура пыли. Какие-то частицы оседали, какие-то не удерживались, падали, а потолок тяжелел и тяжелел. Если бы его однажды можно было встряхнуть — вниз бы рухнула многотонная масса.
От пыли и газа в этом цехе, где было много огня, стоял постоянный полумрак. Обычный полумрак литейного цеха, одинаковый днем и ночью. И звуки здесь были привычные для литейного цеха: сипение как будто где-то перехваченного шланга со сжатым воздухом, удары формовочных станков и грохот и звон огромных металлических барабанов, внутри которых падали, перекатывались металлические детали. Звуки были такой же плотности и густоты, как и пыль.
Цех был новый, огромный, оборудованный по последнему слову тогдашней техники. Над головами людей, под крышей, по конвейеру текла к станкам формовочная земля, формовщик только открывал заслонку — и земля падала в опоку. Формовщик расправлял ее руками и лопаткой, включал станок, и тот, свистнув сжатым воздухом, сотрясая фундамент, сотрясая пол, на котором стоял формовщик, уплотнял землю в опоке, трамбовал ее.
Готовые формы ставили на конвейер, и они проходили под ковшом с жидким металлом, который сюда подвозил подъемный кран. Потом конвейер сбрасывал залитые формы на металлическую решетку, которую трясло так же, как формовочные станки, и земля из форм выбивалась, выкрашивалась, уходила вниз, под решетку, а металлические детали, еще малиновые от огня, еще не как сталь, не звонко, а глухо звучащие, крючьями отбрасывались в сторону.
Формовщики и литейщики работали быстро, зарабатывали хорошо, получали молоко и спецовку, но до тех пор, пока был принят закон, разрешавший начальнику удерживать на предприятии рабочих, литейщики и увольнялись чаще других.
Когда Валентина проходила мимо конвейера, ее всегда тянуло остановиться посмотреть, как бегают формовщики, как соединяют половинки форм и несут их вдвоем на конвейер, как наклоняются друг к другу и что-то кричат на ухо, как орудует длинной затычкой литейщик у ковша с расплавленным металлом. И она останавливалась и смотрела. Но ей и заслониться от этого хотелось тоже, как бывает, когда смотришь на сильный огонь.
Самой Валентине после того, как она преодолела первый страх и вошла в шишельный цех, отделенный от всего литейного низкой металлической перегородкой, после того, как свыклась с горящим дымным воздухом, с земляной, масленой своей работой, литейный даже нравился. Работа была простая, бригада шишельниц почти не менялась, а кроме того, цех на заводе был «самым». Самым вредным, самым горячим. Все, кто работал здесь, были на передовых позициях. Об этом говорили на собраниях, писали в заводской многотиражке. И вообще было в этом огромном, грохочущем вспышками пламени, темном, тяжелом здании что-то такое, к чему Валентина смогла привыкнуть. А привыкала она надолго.
Она, конечно, и боялась работать в литейном, и даже планировала когда-то уйти из него, но это были мысли неопределенные. Они и не могли быть определенными, пока она жила в общежитии, питалась в заводской столовой, ходила в вечернюю школу. Ее хвалили в цеховой стенгазете, ее фотография висела на Доске почета в красном уголке. Выходя из цеха после смены, она чувствовала полное удовлетворение — наработалась. Потом она шла в общежитие: ела по-мужски, не готовя, не поджаривая, причесывалась по-мужски просто и шла в школу. В воскресенье ходила в спортзал или — летом — на водную станцию.
Когда она познакомилась со своим Женей и сказала ему, что родители ее живут в этом же городе, он удивился. И так и не понял, почему она живет в общежитии, а не у своих. Когда Женя чего-нибудь не понимал в новой машине, он становился серьезным, лез в справочники и постепенно разбирался. Когда он сталкивался с чем-нибудь непонятным и непривычным в жизни, когда он не понимал чьих-то поступков, он морщил нос, посмеивался и не возражал. Он был очень терпимым человеком. Валентина ни разу не слышала, чтобы он кого-нибудь резко осудил или выбранил, и это ее сильно раздражало. Непонятное Женя просто быстро забывал. Мало ли в жизни странного — не трогайте людей, они сами разберутся.
Вначале в общежитии Валентине почти все нравилось. Нравилась мужская свобода от приготовления пищи, от слишком частого мытья полов, бесконечной стирки, от родительского надзора. Нравилось вместе со всеми утром выходить на работу. В тот ранний час, когда девчонки идут еще самой лучшей своей бодрой походкой, когда они еще не устали, еще стройны и высоки, когда волосы еще хорошо завиты и губная помада не съедена, а от ребят удушливо пахнет вчерашними папиросами, утренним табачным перегаром. Нравилась умывалка с ее очередями, в которых встречаешь знакомых (вода сама течет из крана: мой посуду, стирай, а дома еще надо наносить из колонки). Нравилась вечерняя школа с ее странной, нешкольной, ночной жизнью. Всегда при электрическом свете, в чужих классах, со взрослыми соседями за чужими партами. Днем здесь настоящая, дневная школа, учителя сидят в настоящей учительской, а вечером приходят вечерники, их встречает равнодушная, усталая дежурная нянечка, учительская в какой-то кладовке, половина классов заперта, не освещена, ученики курят на переменах.
И все-таки это школа. Училась она хорошо, времени не замечала.
Но, видимо, в ней всегда было живо чувство, что и литейный цех, и общежитие — все это не навсегда. Это как вечерняя школа — когда-нибудь ее окончишь. И когда они с Женей увидели друг друга, когда она однажды даже против своей воли подумала: «Господи, за что же мне такое счастье!» — она вдруг увидела, что в этом огромном здании много затемненных переходов, тупиков, поворотов, спусков, подъемов, где можно долго оставаться незамеченной, где можно вдвоем посидеть на теплой, обросшей затвердевшей пылью трубе какой-нибудь цеховой магистрали, на куче желтого песка и вообще уединиться и отделиться от начальства и подруг. А когда Женя привел ее к себе, она легко и радостно рассталась с общежитием, а забеременев, из шишельниц перешла в учетчицы, а из учетчиц в лаборантки и старалась пореже спускаться из лаборатории в сам цех, пореже дышать загазованным воздухом.
Общежитие она покидала даже с облегчением. Все-таки надоело за несколько лет одеваться и раздеваться при всех, спать, когда другие не спят, зажигать свет, когда другие заснули. Но и в семье у Жени она никак не могла по-настоящему прижиться. Боялась сделаться домработницей. Боялась, что здесь ее запутают старорежимной вежливостью и добротой, заставят бросить работу, институт, отказаться от общественных нагрузок. Самым старорежимным человеком в семье Валентина считала Женину мать Антонину Николаевну. Уклончивая доброта Антонины Николаевны, ее способность молчаливо делаться незаметной, любыми способами сохранять в семье мир казались Валентине той самой опасной в наше время интеллигентской бесхребетностью, против которой всех предупреждали газеты.