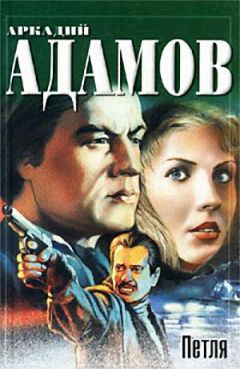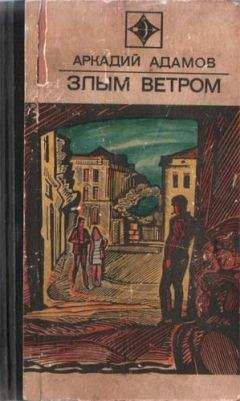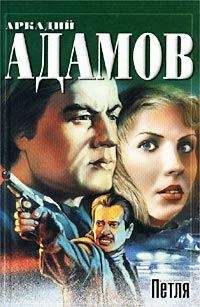Анатолий Жуков - Дом для внука
Отличный кормоцех. Самодельный, между прочим. Автоклавы с силикатного завода, нории с элеваторов, ленточные транспортеры — строительные. Только что сваренный, свежий, теплый еще корм подается в свинарники по трубам, а там уж механизмы разнесут, накормят и напоят каждую свинью. Даже веселить их намерены: зоотехник говорит, что свинарники надо радиофицировать и подобрать соответствующую музыку, которая повышала бы аппетит и общий жизненный тонус животного.
Балагуров слушал, раскрыв рот, как ребенок, он был восхищен рассказом, покорен, и Межов простил ему недавнее непонимание и легкомыслие.
— Да-а, — протянул Балагуров, потирая гладкую голову, — действительно чудеса-а! Десять миллионов прибыли, надо же! Слышал, Курепчиков? А мы ему какую-то статейку навязываем о вчерашнем дне. Пусть эту статейку Хватов подписывает, у них в Хлябях такие же свинарники, как у соседей, а Межова держи и не отпускай из редакции до тех пор, пока он свой рассказ не изложит для читателей вашей газеты.
— Охотно, — сказал Межов.
— А эту статью переделать для Хватова? — спросил Курепчиков.
— Переделывай, — сказал Балагуров, — я ему сейчас позвоню.
— Зачем? — удивился Межов. Балагуров засмеялся:
— Не пропадать же добру! Они целый номер посвятили почину соседей, нельзя его не поддерживать. — Он снял трубку: — Соедините меня с Хлябями… Да, с председателем колхоза.
Межов покачал головой, встал и пошел к выходу, за ним поплелся Курепчиков, а вслед летел веселый голос Балагурова:
— Хватов?.. Здравствуй, Хватов! Как живешь? К празднику готовишься? Тут подряд праздники идут, косяком. Юбилей Хмелевки, пасха, Первомай… Я вот по какому делу…
Курепчиков захлопнул дверь, и голос Балагурова пропал.
В прихожей их встретил озабоченный Семеныч, сообщил Межову доверительно:
— Щербинин в больнице. Сейчас Юрьевна звонила, рассказала: утром ждала, ждала его на работу — нет, позвонила домой, телефон не отвечает. Потом из больницы сообщили…
— Она не была там? — спросил Межов.
— Юрьевна? Врач сказал, никаких посещений, он еще в сознанье не пришел, жена там с ним.
Межов сел за стол дежурного, позвонил в больницу, но ничего нового ему не сказали: тяжелый, исход неизвестен, позвоните к вечеру.
Межов пожалел о вчерашнем. Щербинин был усталый после работы, а тут еще семинар, трудный разговор по дороге домой. Надо было воздержаться, а он терзал Щербинина вопросами, докапывался до самого сокровенного. И вечер продолжался слишком долго. Не надо было уходить с вечера без Кима, он, говорят, привязчивый, допек, наверно, отца своими претенциозными разглагольствованиями.
Межов позвонил Киму, сказал, что отец болен. Тот засмеялся:
— Опохмеляться надо, а вы не слушаетесь опытных людей вроде меня, на работу спешите.
— У него инсульт, врачи не уверены в исходе. Ким хотел что-то ответить, поперхнулся, в трубке послышалось его дыхание, потом щелчок.
Межов уступил место недовольно стоящему рядом дежурному, который куда-то отлучался, и вышел.
День постепенно разгуливался, выглянуло солнце, зеркально сияли, ослепляя, лужи. На площади между райкомом и райисполкомом ярко голубела заново покрашенная широкая трибуна, низ ее был подпоясан красным полотнищем: «Встретим 300-летие Хмелевки трудовыми победами!», Значит, праздник будет без Щербинина.
В проулке, неподалеку от РТС он почти столкнулся с Баховеем, которого не встречал с осени прошлого года, со дня партконференции.
— Чуть не сбил меня, — сказал Баховей, протянув руку для пожатия. — Ходишь сбычившись, думаешь, размышляешь все. Интересно, о чем?
Такта не прибавилось, подумал Межов, не удивительно, что в школе ему трудно. И отметил, что Баховей заметно похудел, прибавилось морщин на каменном, словно потрескавшемся лице, виски стали совсем седые.
— Хлопот много, — сказал он. — Весна вот пришла, посевная скоро.
— Да, опять весна, — вздохнул Баховей. — Грачи вон гомонят у кладбища, скворцы прилетели.
— Да, — сказал Межов, — прилетели. Говорить было вроде не о чем, хотя поговорить они могли бы о многом, но оба чувствовали взаимную настороженность, отчуждение, не могли преодолеть этот барьер, — и вот топтались на деревянном мокром тротуаре и не знали, как разойтись.
Баховей достал из кармана плаща папиросы, предложил ему:
— Закури. Или еще не научился?
— Не научился, — сказал Межов.
— Ферму все-таки строишь, значит?
— Строим, — сказал Межов. — Достраиваем уже, подготовили для закладки первую партию яиц.
— Может, и правильно, воды у нас много, почему не использовать.
Межов понял, принял этот мяч примирения, дал ответный пас:
— Много пустой суеты, бестолковщины. Скоро в поле выезжать, а мы технику еще ремонтируем.
— А РТС?
— РТС зашилась с колхозной. В зимние месяцы для Татарии ремонтировали, левые заказы выполняли.
— А Щербинин куда глядел?
— Щербинин и остановил. Веткину — «строгача» и запретил принимать.
— Стойкий он мужик, крепкий. Его бы надо в первые двинуть, а не Балагурова, прошляпили вы.
— Возможно, — сказал Межов. — В больнице он сейчас. Инсульт.
— Ну?! И давно?
— Утром отвезли. Сегодня.
— А я вчера звонить ему хотел, поздравить с днем рождения. Ты не был вчера у него?
— Был, — сказал Межов.
— Ах, какой я дурак, какой дурак! Надо было позвонить, поздравить, а я не поздравил… Уж и трубку снял, а потом обиду свою вспомнил, дурак, и положил. Как он сейчас, не знаешь?
— Тяжелый, в сознание еще не пришел. Левосторонний паралич.
— Ах черт, какая досада! Надо сейчас же туда сходить. Идем вместе?
— Не разрешают. Я звонил, говорил с врачом.
— Он же умереть может, слабый весь, издерганный!
Межов впервые видел такого Баховея, озадаченного, встревоженного, напуганного чужой бедой. Неподдельное горе было в его постаревшем лице. И обычно твердый, немигающий взгляд темных глаз стал жалобным, вопросительно-недоумевающим. Как же так, спрашивал он, жили в одном селе, ссорились, мирились, опять ссорились, и вот я стою с тобой, а он там, на краю могилы, а? Как же так?
— Пойду я, — сказал Межов. — На ферму мне надо, на стройку.
— А я? — спросил Баховей. — Может, и мне с тобой пойти? Куда я сейчас?
Межов молча пожал плечами.
VI
Баховей не думал, что болезнь Щербинина может отозваться в нем таким горем. Столько он видел смертей, особенно в войну, посылал, не колеблясь, людей под пули, да не с КП полка, не командой по полевому телефону, а из траншеи, с «передка», и не однажды сам выскакивал первым, с пистолетом в руке подымал поредевшие роты, вел под ураганным огнем на какую-нибудь высотку, на сожженную деревеньку, от которой остались обгорелые печные трубы, потому что это были наши высотки, наши деревеньки, и нельзя их было отдавать, кровью за них плачено, жизнью!..
Не ожидал, не думал. Почему? Наверно, потому, что эти смерти, эти военные потери заслонили все прежнее, давнее. Ведь именно со Щербининым он впервые изведал холодок смерти, изведал и не сробел рядом с ним, обстрелянным на гражданской, надежным. И в Хлябях по ним стреляли и в Больших Оковах, когда они брали кулаков Пронькиных, и потом в Выселках, в Яблоньке… И вот, видно, душа вспомнила, отозвалась.
Баховей обошел большую лужу перед голым больничным сквером и очутился за воротами. Навстречу ему куда-то торопилась молоденькая санитарка в белом грязном халате.
— Щербинин где лежит? — спросил ее Баховей.
— Второй корпус, пятая палата.
Баховей пошел по засыпанной шлаком дорожке ко второму «корпусу». Пятистенная большая изба, а величают корпусом. Там всего восемь палат. Баховей лежал там два года назад с микроинфарктом и тоже в пятой палате. Надо посмотреть в окошко и дождаться ухода врача, дежурная сестра пустит.
Баховей, нагнувшись, поднырнул под мокрые ветки березы, прошел вдоль бревенчатой стены и заглянул в окно знакомой палаты. Да, Илиади сидел у кровати, рядом стояла сестра, а в изголовье Глаша, тоже в белом халате, пузатая, в руках поильник. Значит, правда, беременна, не сплетню Марья передавала. А Щербинина не видать, загородили.
Баховей, воровато оглянувшись, встал в простенке, достал папиросы, закурил. С полукрышка капало ему на шапку, но отойти было некуда, и он только плотнее прижался к стене, чувствуя спиной холодные неровности бревен и поминутно оглядываясь вправо-влево. Неловко, если кто увидит, как он прячется.
Баховей опять заглянул в окно и на этот раз увидел лицо Щербинина, худые волосатые руки на белой простыне. Лицо было перекошено и как бы смято влево, черной повязки на выбитом глазу не было, и открывалась зияющая влажная щель. Левая рука неловко согнулась, пальцы сжаты в кулак.