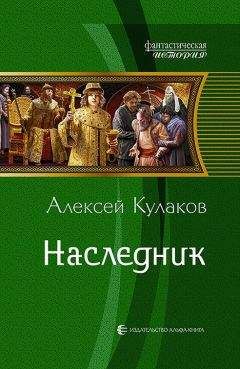Юрий Яновский - Кровь людская – не водица (сборник)
Здесь его поражает новшество: вдоль всего частокола густо сплелись деревца боярышника.
«Вот сукин сын, догадался огородиться — теперь никто не перелезет, а кто и полезет, без глаз останется», — думает Заятчук, осматривая колючую изгородь.
Возле разинутой пасти парильни смазывает колесной мазью железные оси брички батрак Сичкаря, и даром что на парне вместо одежды лохмотья, он беззаботно насвистывает «Метелицу», а все его тело и даже кисть пританцовывают при этом. Заятчук не раз замечал, что этот бесенок даже в церкви приплясывает, а на гулянках выкидывает в своих отрепьях такие коленца, что и мертвец не улежит, глядя на него.
— Павло, где дядя Иван?
Белоголовый Павло Троян проворно оборачивается к Заятчуку и указывает кистью в глубину двора.
— На огороде!
— Покидает тебя хозяин?
— Да, вроде едет, — отвечает паренек, переходя на другой мотив.
— Может, у тебя мало будет работы? Так переходи ко мне, — понижает голос Заятчук. Он знает, что у Павла в руках все горит, и не первый день собирается переманить его.
— Может, и сойдемся в цене, ежели харчи будут как у людей.
В уголки серых глаз Павла заползает насмешка. Ему давно уже осточертело служить у немилосердного Сичкаря, который даже собственную жену молотит, как сноп. В прошлом году мальчуган хотел было сбежать к красным казакам, да не взяли — не дорос до коня и шашки. Жаль, не догадался увести у хозяина жеребца, — тогда приняли бы.
Заятчук подходит ближе к Павлу и тихо, сочувственно говорит ему:
— У меня, парень, в таких отрепьях не будешь ходить. Забегай завтра, поговорим. — И степенно проходит на большой, в две десятины, огород Сичкаря.
За спелой кукурузой с почерневшими уже космами кланяется в пояс неубранное просо, дальше голубеет капуста, а за нею гнутся подсолнухи. Между ними ворочается тяжелая туша Ивана Сичкаря: он секачом обрубает постаревшие головы подсолнухов, оставляя на изувеченных стеблях нетронутые кружочки молодых цветов.
Заятчуку эти высокие стебли подсолнухов чем-то напоминают людей; он смотрит, как Сичкарь мастерски орудует острым секачом, и смеется:
— Рубишь головы отцам?
Сичкарь как будто понимает, о чем подумал Заятчук, — махнув секачом, он кладет себе под ноги большую голову немногодетного подсолнуха и значительно отвечает:
— Отцам и следует рубить головы, а дети пускай живут.
Его низковатый голос и усмешка на обезображенном лишаями лице обдают гостя холодом, и тот уже кается, что захотел переманить к себе Павла. Может, лучше поговорить об этом с самим Иваном, ведь и он не больно-то доволен своим батраком?
По дорожке, размахивая широкими рукавами белой сорочки, спешит дородная, коротконогая и быстроглазая Зинька, жена Сичкаря; от ее пестрой, красной юбки испуганно отскакивают, словно отдергивают руки, вершинки черного проса. С проса взлетают воробьи, распевая свое «жив-жив».
— Иван, ступай скорее, гости сердятся! Нашел себе работу! Добрый день, Данило!
— Доброго здоровьичка, Зинька! Красивеешь? — Он любуется тугим, налитым здоровьем лицом женщины.
— Где уж нам теперь красиветь! — приложив руку к груди, вздыхает она для Ивана, а сама играет глазами для Данила, который хоть и некрасив, да силен, как вол.
Иван, глядя на жену, грустнеет. Не больно-то ему хочется покидать все это приволье и отправляться за каменные стены тюрьмы. Надо же было тогда заупрямиться! Завез бы зерно — и не грызли бы казенные клопы. А всему виною Мирошниченко. Ну, да не долго Свириду землю топтать! Пойдет как миленький туда же, куда и Пидипригора.
Сичкарь подходит к дорожке, где лежат сапоги, отряхивает с одежды золотистую пыльцу подсолнуха и, стоя, бережно обматывает онучей полную, выбеленную жиром ногу. На подсолнухи все с тем же «жив-жив» налетают воробьи. Над Сичкарем носятся запахи конопли и надрубленных подсолнухов, и от этого еще круче замешивается в нем злость на Мирошниченка.
В хате уже накрыты столы, но гости толпятся возле порога и сундука. А когда входит хозяин, с сочувствием здороваются с ним, вздыхают, морщатся и садятся на топчаны и лавки. Кто-то вспоминает, что нет старого Никодима, но Зинька под одобрительный смех поясняет, что при новой власти дед заглядывает не в грешную чарку, а только в святую книгу.
— Дай боже нашему Ивану добрую дорогу, да чтоб скорей возвращался к хозяйству и к жене! — торжественно поднимает чарку Ларион Денисенко.
Гости выкрикивают: «Дай боже!» — а Иван в это время грустно переглядывается с Настей, которой, верно, больше всех жаль, что он уезжает из села. Даже ее навек обозленные глаза подергиваются тенью. Зинька видит, куда смотрит муж, и кипит от злости, но не выказывает своих чувств, а манерно собирает губы в оборочку. Если он и в такое время заглядывается на эту, то нечего ей, Зиньке, тосковать по своему благоверному.
Сидели все недолго — не с чего было веселиться, да и большинство из них думало не столько о Сичкаре, сколько о своей земле.
Попрощавшись и проводив гостей за ворота, хозяин еще раз грузно прошелся по двору, забросил на бричку тугую, завязанную у самого края суму с харчами, бережно уложил в ногах две бутылки с самогоном и подсадил жену на задок.
Павло запряг лошадей и хотел было вскочить на бричку, но Сичкарь взял у него кнут.
— Оставайся дома, я сам буду править.
— А назад как? — удивился парнишка.
— Хозяйка управится, — кивнул Иван на жену. — Пускай приучается при новой власти.
Добрые кони вылетели со двора, промчались мимо пруда, где, согнувшись в челноке, все еще внимательно читал святое писание старый Никодим.
— Что же ты Павла не взял? — спросила жена. — Я этих лошадей как огня боюсь.
— Учись сама править, теперь коммуния идет, — отрезал муж и до самого села не промолвил больше ни слова.
«О Насте думает», — еще больше обозлилась жена.
В селе Сичкарь, словно напоказ, останавливался возле дворов родичей, нес впереди себя бутыль и, выпив по чарке, снова петлял по улицам, не минуя ни близкой, ни дальней родни.
Все село видело, как Иван Сичкарь прощался со своим родом, отправляясь в тюрьму.
XXII
Сентябрьское солнце незаметно опустилось за растреснутые неплотные облака и тотчас расстелило далеко за лес недобеленные холсты. У опушки злобно прокартавил, протокал пулемет, и, задыхаясь от страха, по-женски заахало эхо на леваде.
Докия, прислушиваясь к выстрелам, остановилась возле перелаза.
«Опять, верно, банда объявилась. Не напали ли на комитетчиков?» Она вздохнула, думая не столько о банде, сколько о Тимофие. Он снова, еще до рассвета, ушел делить барскую и кулацкую землю и все еще не возвратился домой. Неуемной женской болью защемило сердце: какая бы ни случилась беда, Докия первым делом тревожится за мужа, за всех родных да кровных, не зная кого и просить, чтобы хранила их судьба от напасти.
Подумать — сколько лет прошло с тех пор, как молчаливый, суровый Тимофий впервые неумело приласкал Докию, уже и сына какого вырастила, а все и теперь, как девушка, любит, как девушка, тоскует по мужу, хотя на людях ни одним словом не выказывает своих чувств… А когда появился на свет Дмитро, когда раскрылся светлый и тревожный мир материнства, в ее любовь неприметно влилась еще новая струя: Тимофий стал для нее не только отцом ее сына, но как бы и ее отцом. Может быть, потому, что как раз в ту пору умер ее старый отец. И до радостной боли хорошо было Докии, в сумерки встречая возвращающегося с работы мужа, прижаться к нему, положить голову на грудь и вдохнуть не выветрившиеся из складок его одежды запахи широкой степи или хмельного леса.
— Эх, ты! — коротко скажет он, улыбнется черными грустными глазами и, как ребенку, положит ей на голову сильную руку.
— Соскучилась я по тебе, Тимофий! Так соскучилась, будто ты вот только с германской войны пришел.
— Чудно! — Он снисходительно глянет на нее и по привычке задумается, погрузится в свои заботы.
…Солнце выскочило в узкий просвет меж облаками и бросило под ноги женщине живую, узорчатую тень раскидистой яблони.
Вдали звонко зацокали подковы, и вскоре показались четыре всадника на рослых, гладких конях. Трое верховых были в буденовках, а четвертый, очевидно командир, в кубанке.
За плечами карабины, на темно-синих галифе красные лампасы. Обгоняя верховых, бешеным наметом промчалась пулеметная тачанка, и высокий вихрастый казак, молодцевато стоя во весь рост, что-то крикнул всадникам через плечо. Те расхохотались, кинули вдогонку пулеметчику какие-то слова про банду Гальчевского и разом, дружно, в лад, запели молодыми голосами песню Богунского полка.
«На банду едут, а смеются, поют, будто им и смерть нипочем! Вот народ!» Женщина проводила кавалеристов долгим, затуманенным взглядом.