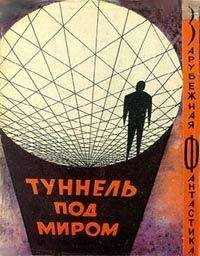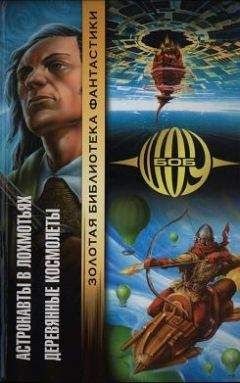Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
Из саней вылез второй мужчина, старый, с красным мясистым носом. Он стоял, пялясь на угол хлева, где были свалены бревна, — брат ее работал лесником и продавал древесину. Старый не понравился ей с первого взгляда. Некоторое время так и стояли рядом: один — неуклюжий, в тулупе, другой — в летней кепке, в начищенных сапогах. И смотрел этот, в сапогах, не на угол, где были свалены бревна, а на юго-запад, туда, где виднелись высокая зубчатая стена леса и белый, почти касающийся ее вершины холм, освещенный лучами клонившегося к северному краю леса солнца. Неподалеку от этого холма начиналась широкая просека, вязкие брусничные перелески, озеро, кустарники, которые она исходила вдоль и поперек в годы ее пастушества, — при одной этой мысли ноги ее запылали, словно снова потрескались, оцарапались, обожглись о крапиву; там, на юго-западе, виднеется и высокая крыша избы Жаркуса.
Вскоре к приезжим подошел ее брат. Немного поговорив, они направились не к бревнам и не в избу, как она надеялась, готовая броситься убирать светелку, а в хлев. Не собирается ли брат продать ее буренку?
Когда она выскочила во двор, мужчины переминались возле коровы, а тот, в галифе, уже рылся в бумажнике. Изо рта у него торчала дорогая папироса, в углах губ играла странная улыбка. Деньги он отсчитывал так, чтобы все видели, сколько у него еще осталось.
Сколько раз потом она увидит его таким, беспечным, смеющимся, увидит его лицо на базаре, возле прилавков, всегда, когда он тянется за бумажником, чтобы тотчас же его без всякой надобности опустошить; сколько раз такое его лицо вызовет у нее ненависть и желание удержать его легкомысленную руку, вырвать из нее деньги!
«Комедия», — любил говорить Криступас. Неизвестно почему он ломал эту комедию: может, хотел порисоваться, может, считал себя свободным от всех земных забот; может, льстило ему недолгое чувство превосходства: сгорбленные спины, взгляды, брошенные исподлобья, втянутые в плечи головы. Разве Криступас хочет видеть только таких людей, торговаться с ними, ловчить? Нет, никогда. Избавьте его, ради бога, от таких компаний!
Вот и теперь перед ним стоял один из таких мужчин — долговязый, с тонкими повисшими руками, он ловко сунул в карман почти на треть денег больше, чем надеялся получить, и теперь, чуть подавшись вперед, ждал, что еще скажет человек в галифе.
Анупрас обиженно хмыкнул — кто-то сосватал его Криступасу, как знатока, прекрасно разбирающегося в скотине, но не успел Анупрас и взглянуть на корову, слова произнести, как сделка была закончена.
— Кто же эту корову доить будет? — проворчал он вполголоса.
Тогда-то, словно из-под земли, выросла маленькая, лет тридцати женщина, и сказала, что корова принадлежит ей и что брат не имеет права продавать ее. Наступила тишина.
— Ну, раз так… — протянул Криступас, шагнув к ее брату, но хозяйка коровы схватила его за руку и что-то прошептала. Немного поколебавшись, покупатель в галифе направился к выкрашенной в зеленый цвет избе с крылечком, а рядом трусила эта женщина.
Через четверть часа они уже сидели за столом и пили ржаной самогон из синих, отдающих холодом, рюмок, закусывая маринованными грибами. Криступас все время косился на сидящую рядом женщину, наполнял рюмки, без умолку говорил, пробовал кушанья, рассказывал о войне, о городах, в которых ему довелось жить или побывать. Она очень удивилась, услышав, что теперь он промышляет торговлей. И такого названия — Ужпялькяй — она не слышала.
— Где этот Ужпялькяй?
Все замолкли: ни брат, ни его жена такой деревни не знали. Жили они среди лесов, выезжали редко. Мало кто и их навещал — разве что покупатели древесины. Криступас принялся рассказывать о своей жизни — вдовствует, дескать, двое детей… Но его попутчик был хмур и неразговорчив. Навалившись обеими руками на стол, он запихивал в рот еду. Он уже давно махнул рукой на Криступаса: что бы тот ни говорил или ни делал — все ему казалось сплошной ерундой, а вот то, что он сам делал — это другой коленкор. Чем-то попутчик смахивал на Жаркуса.
Вечерело. Солнце уже цеплялось за верхушки деревьев. Криступас вдруг примолк: по столу скользнула тень, плетни и деревья уже припорошил иней, но свет еще падал на далекую стену леса и белеющий в сумраке холм.
— Непривычно мне здесь, — сказал Криступас. — Всюду пущи, одни пущи…
Сквозь заиндевелое оконце струился синий сумрак. Поблагодарив за угощение, Криступас долго жал ей руку, и в ее глазах мелькнула унылая и студеная тень: обещал когда-нибудь заехать, дескать, понравилось ему — только теперь она почувствовала жаркое прикосновение его руки. А брат с невесткой уже выгоняли из хлева корову. Криступас нетвердым шагом двинулся к саням…
Недели две спустя он и снова приехал. На сей раз один. Посватался. Она согласилась не раздумывая. Уехала, любезно со всеми распрощавшись, утирая слезы. Только досадовала, что забыла надеть сорочку с узорами по краям, которая лежала на дне сундука под рулонами тканей.
На полдороге их застигла вьюга, и Криступас должен был несколько раз слезать с саней, тащить увязшую лошадь, поправлять сбрую.
До Ужпялькяй они добрались в полночь. Вьюга к тому времени уже унялась. Светила полная луна.
— Какой пустырь, — сказала она и подумала о том, как здесь придется жить. — Вокруг нас дремучие леса, там никто не видит, что ты делаешь, а здесь…
— Здесь мы все в куче.
Это ей не понравилось. Она косилась на дремотные избенки. Они здесь меньше, чем у нее на родине, больше скособочились, сразу видать, что здесь плохо живут.
Криступас начал ей объяснять — вот изба брата Казимераса, там, в долине, среди сосенок, живет его сестра Тякле Визгирдене, а это его дом. На южной половине избы обретается брат Константас со своей женой, а на северной — он, и она увидела заметенное снегом крылечко, дверной косяк с вырезанными буквами К+М+Б.
Она еще не подозревала, с какой обидой будет хлопать этими дверьми, не знала, что и сапоги мужа, и кожух, и сани, и лошадь, и даже попона не его — все одолжено…
Они выгрузили из саней сундук, но лошадь выпрячь не успели: во двор вышел мужчина с озабоченным лицом. Поприветствовав ее, он взял вожжи. Лошадь была в мыле, и мужчина стал упрекать Криступаса: зачем так гнал, чего так спешил, не мог раньше выехать. Грубый окрик Криступаса заставил его замолчать.
Вот и кухня: печь, шкафчик, ведра — от всего несло студеным запахом мочал, только печь дышит едва уловимым теплом. В другой комнате — софа, стулья, шкаф, этажерка, на ней часы с фосфоресцирующим циферблатом. Сюда она и свой сундук для приданого поставит. Пока Криступас пытался нашарить спички, она успела все осмотреть. Чувствовала, что в комнате есть еще кто-то, кроме них. Зарывшись в одеяла, спал ее пасынок. Она хотела было наклониться над ним, но удержалась, поймав на себе чей-то взгляд. С фотографии, висящей на стене, на новую хозяйку смотрела мать мальчика. Позже всевидящие глаза покойницы, то грустные, то за что-то тихо упрекающие, будут настигать ее всякий раз, когда она разозлится или разобидится. О многом они могли бы ей поведать. Поведать и посоветовать…
Пройдя на цыпочках через комнату, она открыла шкаф, из которого выпали лисий воротник, туфельки на высоком каблуке, черная потертая сумочка, набитая бумагами — то были квитанции ссуд и поставок.
…Шелестя, соскользнуло с нее платье, и только сейчас она почувствовала, какое у нее еще упругое, властное тело. Звякнула отлетевшая от лифчика пуговица — единственный мертвый звук среди живого шороха и шелеста.
Так начались слепые ночи неуемной страсти. В Криступасе и в ней проснулось что-то, что было сильнее их. И не было ни меры, ни передышки.
Утром их разбудил ребенок. Он стоял у кровати, держа в руке пуговку от лифчика. Сквозь окна сочился голубой свет, за стеной хлопали двери, хрустел снег. «Кастуте, куда ты, Кастуте. Дай, я поднесу», — и два силуэта — один высокий, другой сутулый, маленький — проскользнули под самым окном.
Надо было затопить печь, накормить скотину. Она заговорила с мальчиком.
— Как тебя зовут?
— Юзукас.
— Ты знал, что я приеду?
— Знал.
— Ждал?
— Ждал.
— Холодно было спать?
— Нет.
— Кто я тебе буду?
— Мама.
— А где твоя настоящая мама?
— Умерла.
— Есть хочешь?
— Хочу.
— Ладно, сейчас сварю.
Отвечая, Юзукас разглядывал пуговицу.
Были и такие минуты, когда она, жарко натопив избу, забиралась на печь, мальчик читал осетинские сказки — тоненькую книжку в темной обложке с парящими над хребтами Кавказа орлами; или сказки о Синей Бороде, о волшебной лампе Алладина, Али-бабе и сорока разбойниках, коте в сапогах и золушке, которую в зимнюю стужу выгнали искать подснежники. Под завывание вьюги за окном или под треск плетней мачеха рассказывала, как бегала босиком по насту за стадом, как ей приходилось гнуть спину у Жаркуса. Затекшие ноги, исцарапанные в кровь икры, крапива, бодяк, можжевельник, топи, кишащие гадюками, разъяренные быки, бешеные лисы и собаки, бегающие ночами по голове крысы, волки, подкапывающиеся под фундамент хлева, овцы, лезущие на стену, кровь в хлеву, на снегу, кровь на доске, когда мачеха заржавевшим гвоздем насквозь проткнула себе ногу, гной, гангренозная ступня, раскаленное железо, выжигающее раны, горящие копыта лошадей, поваленные наземь жеребята, визг, крики, грохот — все это укоренилось в памяти ребенка, срослось со сказками, слилось с его собственными впечатлениями, дополнило их, словно и он там жил, бегал за стадом, стерег от волков овец; воображение рисовало ему далекий край, леса, огороженную высоким частоколом усадьбу, там летом стоит адский зной, на ржаных полях растет один только бодяк, над дворами кружат и кружат ястребы, лютуют неслыханные морозы, белеют непролазные сугробы, по ним мчатся отощавшие волки, рыси прыгают на людей, может, даже шакалы воют, гиены… Не хватает там только тигров и крокодилов — таким ненасытным было его воображение. Но зато какое высокое, какое синее летнее небо он видел там, в этих лесных просветах, где столько клюквы, где так жарко, так душно, просто пекло — какие там должны быть студеные родники, какая там, должно быть, живительная сень!..