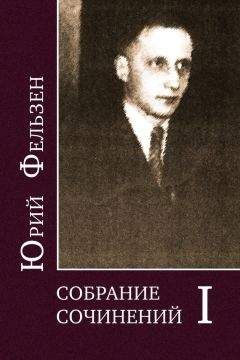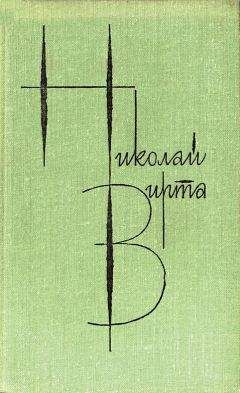Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
К этим духовным блужданиям и поискам поневоле примешивалась умственная игра – неизбежное свойство одаренности и молодости – но ее становилось всё меньше, и она никогда не была самодовлеющей. Поплавский упрямо бился над тем, что порой нам казалось развлечением, он болел метафизической одержимостью и страдал от чужого недоверия, от мелких придирок и насмешек, от того, как легко его уличали в пустых и – основных – противоречиях. Последнее было даже естественным: едва привыкали его друзья к одной незыблемостройной системе, едва начинали ее понимать и смутно, во многом, с ним соглашаться, как он отталкивал, разочаровывал и словно бы спорил против себя. И только с годами сделалось ясным, что разгадка была не в «системах», а в том лирическом кипении, которое щедро их создавало.
Жить соответственно мысли или мыслить соответственно жизни – вот две возможности творчески жить. Поплавский придерживался первой, и люди противоположного склада нередко удивлялись тому, как отчетливо-точно совпадали результаты их жизненного опыта и «абстрактные» выводы Поплавского. Очевидно, его абстрактная природа неуловимо, по-своему, питалась неподдельной жизненной полнотой: недаром вся деятельность Поплавского – по крайней мере в последние годы – превратилась в аскетический подвиг.
Поневоле возникает вопрос – была ли в бесчисленных у него переменах и в быстрой эволюции взглядов какая-то ясная линия, какая-то нечаянная планомерность? Ошибиться в этом легко, разобраться можно лишь смутно, да и ранняя смерть Поплавского прервала такую «эволюцию» и спутала все вероятности, обрекла любые предположения на то, чтобы остаться недоказанными, но – сознавая недоказуемость своего утверждения – я отвечаю, что «линия» была. Ее приблизительный смысл – в заглавии второго романа, в решении: «Домой с небес».
Тот Поплавский, которого когда-то мы знали, был эстетически-презрительно-одинок. Его пленило то, что он слышал и чего не слышали другие – нечеловеческая музыка искусства, особого, ревниво-недоступного, – и ею он упивался, готовый «сладостно погибнуть», однако «с доброй надеждой» – единственно через нее, через эту нездешнюю музыку – возвыситься и как-то спастись. В то именно время писались его лучшие, по-моему, стихи, изысканно-прелестные и вместе опьяняющие, утонченные и неожиданно-сильные, с музыкальной сложностью, с отчетливым подъемом, переходившим в какой-то полет. Поплавскому это удавалось, как удавалось впоследствии иное, как становилось искусством и музыкой всё, чего ни касался мимоходом его уверенно-смелый талант.
Не помню его отношения к тогдашним читателям и слушателям. Мне кажется, в последней своей глубине он надеялся на скорое признание, не заботясь о внутренней связи между ним и столь чуждой ему аудиторией, лишь пытаясь ее ошеломить, иногда непоэтическими средствами. Признания он не получил – чрезмерная замкнутость и новизна мешали установлению связи, затрудняли необходимую подготовку.
Затем сверх-музыкальный полет, неизбежное расширение темы, постепенно его привели к желанию как-то охватить все темы, весь мир, всё явное и тайное, и онстихами уж не довольствовался. Отсюда попытка мистического синтеза – начало «Аполлона Безобразова». Я убежден, что для него прозаическая форма, внезапный к ней переход были огромным, решающим событием, с чем многие, правда, не согласны. Но и сам он это подтверждал, и я на этом не буду останавливаться. Пожалуй, важнее другое – то, что в период «Аполлона Безобразова» его поразила и потрясла жестокая раздвоенность мира, с которой, конечно, не справились ни ирония, ни покорность, ни мистика. Страдание победило абстракцию, и появилась потребность в сострадании.
Оно первоначально пошло по легчайшему, готовому пути. Я помню растерянного Поплавского, который каждому повторял: «Кто не ужален социальной несправедливостью, тот меня сейчас не поймет».
Ненадолго возникло у него увлечение научным марксизмом, навязчиво-пристрастные разговоры о России, о счастье человечества. По ним судить о подлинном Поплавском, попрекать его «человечеством» было столь же близоруко и бессмысленно, как попрекать и «кокаинными видениями». Просто те, кто придирались к нему, совершали логическую ошибку, принимая за целое крохотную часть и осуждая короткий этап на протяжении длительного процесса.
От социальной, социалистической жалости был естественный, новый, последний переход – к личному, доброму, милому вниманию, к осязательной братской любви. Впервые это наметилось в удивительном очерке Поплавского – «Христос и его знакомые» – и вскоре сказалось буквально на всем: его чудесно потеплевшая проза, вдохновенные ночные беседы, какой-то мягкий, не озлобленный юмор, изменившиеся отношения с друзьями, окрашенная любовью судьба, неоспоримо об этом свидетельствовали. Напечатанный в «Числах» чарующий «Бал» нам представлялся когда-то исключением. Прочитанные позже – перед смертью – отрывки из второго романа доказали какую-то прочность намеченного прежде пути, его для Поплавского живую органичность.
Эта лирическая, властно заражающая проза, где психология сочеталась с обобщениями, где мы героев узнавали и любили, где жизненная конкретность сливалась с музыкальностью – это было, по-моему, лучшее, чего Поплавскому добиться удалось, что являлось не надеждой, а достижением, в чем он мог бы еще развиваться. И непонятная гибель Поплавского для нас, его старых друзей – навсегда «открытая рана». Для верных друзей русской литературы это – большое, непоправимое несчастье.
Мы в Европе
«КРУГ». БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ, 3-ГО МАЯ 1936 ГОДА.
Присутствовали: Блох, И. Бунаков, В. Вейдле, Б. Дикой, Г. Гершенкройн, Г. Иванов, Л. Кельберин, А. Ладинский, С. Савельев, П. Ставров, Ю. Терапьяно, Н. Фельзен, Г. Федотов, Л. Червинская, С. Шаршун, В. Яновский. Был заслушан доклад Н. Фельзена на тему: «Мы в Европе».
Люди интеллектуально-творческого склада, бежавшие из советской России, непосредственно не столкнулись с той Европой, какая им когда-то мерещилась, с Европой духовных поисков и непрерывных творческих достижений – для них реально существуют, за самыми редкими исключениями, лишь средние немцы и французы, тяжелый труд, непосильные заботы, скучное, серое, мещанское окружение.
Будучи в стороне от европейского избранного круга, эмигранты должны ощущать реально-близкое его отражение и в той буржуазно-рабочей среде, куда случайно каждый заброшен, особенно в больших городах. Эти люди на скромном нашем пути, их чувства, заботы, настроения нередко описаны в книгах, а улицы, воздух, небо, дома незаметно создают как бы фон современного европейского искусства. Журналы, газетные статьи воспринимаются живей и обостренней, чем если бы мы их читали в Москве или в русской провинции. Словом, надо только захотеть – и европейская культура «доходит».
Легче всего говорить о том поколении русских людей, еще не старом, уже не молодом, которое попало во Францию и занято, поглощено литературой. Оно, естественно, сперва ознакомилось с целым рядом французских писателей десятых и двадцатых годов, с Жидом, Прустом, Мориаком, Валери. Впечатление было ошеломляющее – независимо от направлений и таланта, русских читателей не могла не поразить неподдельная искренность тона, отсутствие эффектов и красот, серьезность жизненного подхода, всё, что наметилось еще до войны от бессознательно-грозных предчувствий, что укрепилось после войны и трагической ее безутешности, что возникло также и в России, у Розанова, Блока, Ахматовой, и было потом заглушено барабанным боем Маяковского и казенным горьковским оптимизмом. Удивило у французов и другое – официальное, мертвое, советское братство у них переиначилось и ожило. Вместо туманного, абстрактного человечества, появился живой человек, страдающий от одиночества и замкнутости, всеми силами стремящийся к людям, к тому, чтобы как-то преодолеть неизбежную нашу разобщенность, чтобы людей и сблизить и примирить. Эти книги нас не утешали, сближение, добро не достигались, но была в них навязчивая прелесть непритворной жизненной правды и неотразимый писательский личный пример. И Пруст, и Жид, и остальные пытались, каждый по-своему, найти из безвыходности выход и в чем-то его находили, нередко сомнительном, искусственном, что заражало меньше, чем поиски – в католичестве, в творческой работе, в особой, теплой концепции коммунизма или в гордом самодовлении мысли. Для тех, кому недоступны религиозные и партийные верования, для них наиболее приемлема именно прустовская апология творчества, с ее созданием жизни, потенциально-возможным в соединении любви, вдохновения и памяти. Такое полнейшее слияние того, что дается нам даром, и того, что достигается долгим трудом, соответствует нашему опыту, и прустовский личный пример – великолепного последнего гуманиста, охватившего всё человеческое, искусства, науки, отношения и время – этот мучительный творческий подвиг оказался не напрасным и не случайным. Как ни печально, творческая область всё очевиднее нуждается в защите, и ее, на наших глазах, пытаются снизить, уничтожить взаимно-враждебные течения и силы.