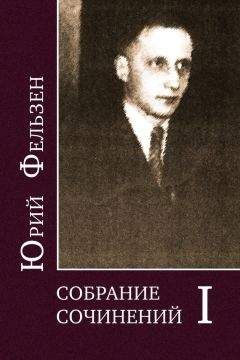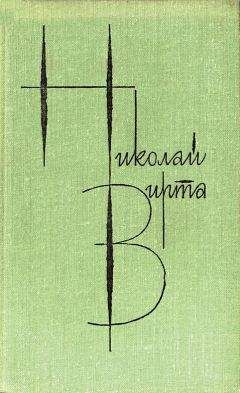Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Мне кажется, Пруст, написавший свою эпопею перед войной и во время войны, был истинным предтечей и вдохновителем французских «двадцатых годов», той незабываемой эпохи, когда французский психологический роман оказался в центре мировой литературы. Сейчас литературная гегемония переходит к англичанам, усвоившим прустовскую тяжелую серьезность и как-то сумевшим ее освежить английскими национальными чертами – налетом грусти, юмором, благородством персонажей. «Тридцатые годы», отчетливо обозначившиеся в книгах Мальро, отмечены легковесностью, понижением уровня и должны для нас явиться поучительным уроком – что активность жизненная и книжная никогда не совпадают и не могут совпасть.
Франсуа Мориак – академик
Избрание и прием в Академию Франсуа Мориака оказалось весьма значительным литературным событием. Было много восторженных комментариев, в руководящих писательских кругах чувствовалось несомненное и единодушное удовлетворение.
Стало общим местом, что передовая французская литература с давних пор от Академии оторвана; в самом деле лучшие ее представители в девятнадцатом столетии – Бальзак, Стендаль, Бодлер – в «бессмертные» не избирались. Некоторые из них неоднократно выставляли свою кандидатуру, но их столь же неизменно «проваливали». Кто-то при одном из таких провалов остроумно и едко сказал: «К сожалению, голоса не взвешивают, а подсчитывают»…
Поэтому избрание подлинного писателя – в последние годы Валери и Мориака – вызывает подъем и кажется чуть ли не чудом. Мориак действительно один из тех немногих счастливчиков, которые признаются «элитой», читаются широкой публикой и оказываются приемлемыми для академии. На первый взгляд он пишет легко и понятно, в противоположность Клоделю и Прусту, Жиду и тому же Валери. У него возвышенная религиозно-буржуазная мораль. Он ни с кем не воюет и никого не отпугивает.
Если вчитаться, Мориак не так уж ясен и прост. Он как будто послушный ревностный католик, но с неожиданно-гневными пророческими обличениями, с аскетической устремленностью, с осуждением благополучной веры и жизни, с каким-то глухим протестом против жизни вообще. Мне кажется, лояльным церковникам должно становиться не по себе, когда они читают его мрачные, тяжелые романы или пессимистическую, непримиримую книгу о «долге христианина». Можно подумать, вот-вот он сорвется в непозволительную ересь. Но в конце концов, покорное смирение побеждает.
Самые замечательные его произведения – «Тереза Декеру», «Поцелуй прокаженного», «Змеиный узел» – проникнуты особой атмосферой, удушливой, скрыто-злобной, беспощадной. Впрочем, у Мориака нет окончательно неудавшихся книг. На каждой из них отпечаток его писательской опытности, его страстного ума и воззрений, в каждой – этот сгущенно-удушливый воздух.
Обычно, его герои безвольные или дурные, жертвы и мучители, в свою очередь раздавленные собственной гнетущей одержимостью. Они живут в безобразном мире провинциальных сплетен, грубого стяжательства и злобных, тиранических отношений. Всё это усугубляется повышенной совестливостью автора, постоянным ощущением греха. Не всегда наступают раскаяние и просветление, и часто они кажутся неоправданными, особенно для человека неверующего, не прошедшего таким же путем. В подобных случаях повествование как бы чрезмерно убыстряется, и возникает досада на пропуски и недоговоренности. Зато в каждом романе между строк смутно чувствуется иной мир, суровый, чистый, без малейшей слащавости.
И вот, самое неожиданное у Мориака: вся эта сложность, многопланность и тяжесть умещается в книгах сравнительно коротких, где соблюдены безукоризненная композиция, отчетливый сюжет, нарастание, развязка, в книгах, написанных ровными, гладкими фразами, при полном почти отсутствии своеобразия в языке и стиле. Невольно является вопрос, не есть ли это писательская ошибка, напрасное умаление себя, и не возникает ли некоторое несоответствие между тоном и содержанием, мыслью и словом, не нарушается ли цельность писательского задания и выполнения. Мы подходим к общему, неизбежному, вечному противоположению французского «сделанного» романа и «текучего», жизнеподобного, русского, отчасти также английского.
Мне пришлось однажды видеть Мориака, незадолго до его избрания в Академию. Очень высокий, худой, в меру моложавый для своих 48-ми лет, буржуазно подтянутый, с розеткой Почетного легиона, почему-то меня удивившей, воспитанный, без чрезмерной, предусмотрительной любезности, он был наиболее видным гостем того литературного салона, куда я случайно попал, и к нему постоянно, по каждому пустяку обращались. Он отмалчивался, ссылаясь на болезнь горла, и, действительно, говорил хриплым, еле слышным голосом, и вдруг оживился, когда начали спорить о Прусте. После чрезвычайных похвал, он заявил убежденно, даже запальчиво: «И все-таки Пруста нельзя считать романистом, он не осознавал того, что пишет, таково и личное мое впечатление от нескольких разговоров с ним: он был скорее “lieu de passage”». Это непереводимое французское выражение должно, по-видимому, означать среду, что угодно воспринимающую и затем бессознательно излучающую воспринятое. Мне почудилось в раздраженном его упреке осуждение той самойстихийности и «текучести», которая, быть может, Мориаку представляется чем-то вроде необузданного хаоса.
Поплавский
Кажется, никто так не умел раздражать приверженцев академизма и рутины, как неизменно раздражал их Поплавский. Но мы, его союзники и друзья, не имеем никаких оснований преуменьшать значение Поплавского и скрывать свое восхищение. Где-то у Вовенарга не без резкости сказано, что всегдашняя умеренность мнений, всегдашний страх кого-либо одобрить, кем-либо восхититься до конца, есть признак человеческой слабости. В этих словах дано определение особого литературного снобизма, и от такого трусливого снобизма Поплавский страдал, как лишь немногие, и с ним боролся сознательно и страстно.
Бывают люди обыкновенные и в то же время бесспорно замечательные, похожие во всем на других, но то, что у других вяло и бледно, у них сгущается и обостренно выражается. Бывают люди необычайные, неповторимые, ни на кого другого не похожие и при этом вовсе не замечательные – их отличия и вся их обособленность неинтересны и жалко-скучны. Поплавский был редким примером и замечательного и необыкновенного человека. К его истокам и душевному центру просто нет и не может быть путей: мы не найдем аналогий ни с кем, и любая проницательность бессильна при отсутствии схожего опыта. Пожалуй, единственное, что нам остается – об этом судить, точнее, догадываться по отдаленным и сбивчивым намекам в его разговорах и стихах.
В них Поплавский неоднократно доходил до упрямой, мучительной веры, такой непреложной, такой обоснованной, что ее бы другому хватило на долгие годы, на целую жизнь, но этой вере Поплавский изменял, взволнованно отстаивал следующую, и не всегда удавалось понять, что была только видимость измены, что сохранялось абсолютное единство. Так у некоторых мнимых дон-жуанов каждая новая, неожиданная любовь – очередное высокое воплощение всё той же единой любовной потребности. Я думаю, слушая Поплавского, с ним споря, с ним изредка соглашаясь, мы все одинаково ощущали, что эти лихорадочно-грустные слова, разноречивые как будто возражения, стремительно-резкие, смелые выводы, что они совпадают, сливаются в одно, что у них несомненно общий источник, что за ними упрямая воля. И такое внутреннее единство неоспоримо для нас подтверждалось особенностью акцента и тона в каждой строке и фразе Поплавского.
Его мысли, поиски и стремления были всегда на каких-то высотах, он упорно пытался проникнуть в непроницаемую тайну природы и для себя упорядочить мир. Его поэзию можно назвать – едва ли условно – «поэзией метафизики». На свои углубленные, тревожные вопросы он находил различные ответы, каждым из них увлекался и мучился, пробовал закрепиться на чем-либо одном и сам себя старался уверить, что вот уже найден окончательный ответ, что пора успокоиться, медленно обдумать надежные, твердые воззрения, не оглядываясь на всё остальное. Но такой «идеологической передышки» у Поплавского быть не могло. Судьба наделила его ужасным, безжалостным даром – быстро и полно исчерпывать любое очередное открытие – и он опять куда-то устремлялся, куда мы с трудом за ним поспевали. Однажды о Лермонтове кто-то сказал применимые к Поплавскому слова: «Во всю свою короткую жизнь он вечно куда-то спешил, точно предчувствовал свой близкий конец».
К этим духовным блужданиям и поискам поневоле примешивалась умственная игра – неизбежное свойство одаренности и молодости – но ее становилось всё меньше, и она никогда не была самодовлеющей. Поплавский упрямо бился над тем, что порой нам казалось развлечением, он болел метафизической одержимостью и страдал от чужого недоверия, от мелких придирок и насмешек, от того, как легко его уличали в пустых и – основных – противоречиях. Последнее было даже естественным: едва привыкали его друзья к одной незыблемостройной системе, едва начинали ее понимать и смутно, во многом, с ним соглашаться, как он отталкивал, разочаровывал и словно бы спорил против себя. И только с годами сделалось ясным, что разгадка была не в «системах», а в том лирическом кипении, которое щедро их создавало.