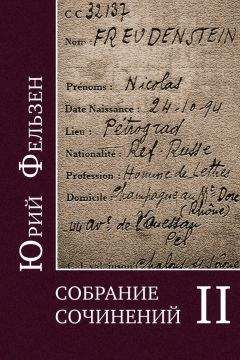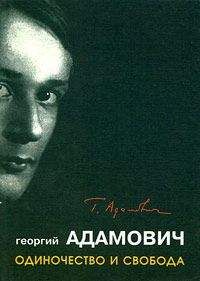Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Конечно, у меня были и другие источники вдохновений (ведь что-то я пробовал писать и до вас), но всё же совместные наши дни и часы – прекрасная, обогащающая, незаменимая для меня школа: мы с вами – от добросовестности, от искренности, благодаря постоянным взаимным проверкам – всегда стараемся высказаться наиболее ясно, незаметно-мучительно боремся со словами и досадуем на всякую их неточность, и я, пожалуй, из наших разговоров убедился с наибольшей наглядностью, что не человек для языка, а, без сомнения, язык для человека, что мы вправе ломать существующий язык, если не можем при его посредстве себя и свое выразить, и что грех перед человеческим достоинством и назначением – недоговаривать, малодушно языку уступать. Всё это требует медленной и страстной работы над каждым словом: пускай получатся неуклюжие, неловкие сочетания – по крайней мере, будет высказано действительно нами задуманное, а не то, приблизительное и случайное, что у нас появляется в легкомысленной, горячечной спешке из-за ленивого подчинения какой-нибудь внешне удавшейся фразе. Пускай также не достигнется видимости размаха и «воздуха», но воздух во всяком творчестве (простите за дешевое остро-умничание) неминуемо становится «водой», и заманчивые широкие излияния нас отучают и уводят от «настоящей сути вещей». Для меня с годами всё неопровержимее ходячая истина, что не бывает достижения без работы – умственной, волевой и собственно-душевной – и что «гладкие вдохновенные стихи» (если они не подделка и не с чужого голоса) всегда последствие взрыва огромной душевной энергии, всегда за счет пережитого и часто бессознательная попытка отвести какие-то недорастраченные силы, применить какие-то еще не использованные возможности. Не уверен, что вы когда-нибудь прочитаете это, всё разрастающееся к вам обращение – впрочем, едва ли в нем много окажется для вас неожиданного и нового (о чем угодно было между нами говоре-но), – но я так рад без конца о себе вам рассказывать, так переполнен, именно в вашем отсутствии, недоведенной до вас благодарностью, что каждое вам предназначенное сведение – для меня праздник, особенно же сведения о самом для меня ответственном, о том, как я прилежно напряженно работаю, каково тусклое и бесцельное, и всё же самонадеянное мое творчество. Вот некоторые разрозненные последние о себе выводы, вам поясняющие, к чему я стремлюсь, к чему остро и жадно – и непрерывно – меня тянет: мне надо не только найти, не только уловить наблюдаемое и неуловимое, но и придать ему – от душевного своего полета – объяснение исчерпывающее и цепляющееся за всё остальное, и здесь я наталкиваюсь на очередное доказательство неизбежного человеческого несовершенства, на то, как всякая свежесть и дерзость убиваются временем и явно положенными нам пределами, ограниченными, жалкими и бедными. Первый же пример – опять из области грустно-сомнительного моего творчества: когда пишу или поправляю написанное, я настойчиво добиваюсь словесно-душевного тождества и малейшую неточность определений воспринимаю до болезненности нестерпимо, но уже через несколько месяцев такие нестерпимо-неточные слова мне кажутся естественными и нужными, и я попросту могу не заметить отклонений от обязательной правдивости – воображаю равнодушное невнимание предполагаемого и даже добросовестного читателя ко всем этим, столь тяжело мне давшимся мелочам. Еще более обидный пример нашей глупой «конечности» и несовершенства – наша рабская зависимость от возраста: каждый мыслящий самостоятельно человек, к сожалению, достаточно рано – к тридцати-сорока годам и сравнительно редко позже – находит свой «ключ», открывающий предельную, доступную ему углубленность, и дальнейшее творчество должно идти как бы в ширину – он словно бы нащупывает прожектором различные области, случайно еще не исследованные, но уже упрямо не «долбит» какой-либо из них до нового дна, до нового и страшного обнаружения ее бездонности, и оттого мы часто поражаемся сочинительству без вдохновения и «под себя».
Перечитываю написанное с особым странным удовлетворением: нет ни одного слова, которого бы мгновенно вы не поняли, из-за которого бы не были как-то (может быть, любовно) взволнованы, и этот ваш неминуемый отклик на каждое мое слово – едва ли не наибольшая радость, не наибольшая моя победа. Но как бы я порою ни хотел вас оградить от всяких знакомств и посягательств и с вами запереться вдвоем, ваш неизменный всюду успех словно бы окончательно подтверждает беспристрастную правоту моего выбора: я, кажется, свободен от случайных влияний, но, пожалуй, никому не удается жить только по-своему, не опираясь на чужой опыт. Вы не однажды мне признательно говорили, что возвышенность и чистота наших отношений сразу угадываются посторонними людьми (даже явно дурными или враждебными), что мы невольно вызываем их доброжелательность и невольно действуем на них облагораживающе, что в моем присутствии вам все улыбаются и ждут вашей ответной, пускай и не обнадеживающей улыбки, что вы неоспоримо нравитесь из-за меня и при мне, в чем для вас неоспоримо и моя заслуга. Это отчасти верно и для меня лестно, однако ради справедливости я должен несколько приуменьшить свою «заслугу»: ведь именно у вас просто ошеломительный и женский и человеческий «шарм», и вы без видимых усилий очаровываете и тех, кого хотите очаровать, и тех, кто вам безразличны или неприятны. Иные вас считают даже неискренней (помните чье-то изречение – «у кого нет врагов, тот всегда дезертир»), но я перед тем, как обвинять, нередко пробую судить по себе и вот прекрасно понимаю упорную эту потребность (у меня ослабленную по сравнению с вами и, конечно, без вашего таланта) кого угодно волнующе радовать, с кем угодно, хотя бы мимолетно, устанавливать дружественно-милую связь. Меня только удивляет, что вы так мало пользуетесь своим даром, так легко забываете внушенное вами волнение, и я иногда готов самонадеянно допустить, будто при мне вам никто не нужен (как и мне при вас) и будто свойственная нам обоим потребность обольщать – лишь смутные поиски (или теперь отражение) той безграничной взаимной доброты, которую мы, наконец, друг в друге нашли и которую непрерывно ощущаем.
Непрерывное это взаимодействие приводит (по крайней мере, у меня) к явлениям преувеличенным и болезненным, и часто самые незначительные ваши фразы звучат по-новому трогательно и страстно и означают то, чего явно в них нет. Так, если вы говорите – «я очень расстроена», «я вас ждала», – у меня распространительно-произвольное толкование: «девушка с белокурыми косами у окна», нечто иллюзорно-поэтическое, из чужого, недоступного мне мира, она почему-то меня ждет, почему-то из-за меня расстроена, и я, вдруг осчастливленный, подслушиваю «слова о какой-то любви… и, Боже! мечты обо мне»… Но если даже так убедительно иные ваши слова и не звучат, едва ли не каждое из них меня задевает, тревожит или успокаивает, и каждую вашу фразу я немедленно же двояко истолковываю – что из-за этого меняется в вашем, никогда не определяющемся для меня образе и что меняется в вашем ко мне отношении, и порой я вижу удачное или неудачное для себя там, где вы обо мне и не думаете, где вы рассеянны и заняты лишь данной своей мыслью. Впрочем, я не совсем правильно выражаюсь, говоря о неокончательной определенности вашего образа: в основе вы грациозная, умная, властная и – как я этому ни сопротивляюсь – пленительно-добрая и нежная, а сопротивляюсь я из-за вашего невнимания и резкости с ненравящимися вам людьми, главное же, из-за женской со мной беспощадности, которая (знаю наперед) должна не раз еще проявляться и меня мучить. Но мне надо вас видеть именно пленительно-доброй – так хочет мое чувство вопреки головной правде, – и «головной правде» я ненадолго уступаю, когда вы со мной немилы, когда последнее впечатление развенчивает вас и мою с вами дружбу и я себя расхолаживаю и вас неумолимо в себе черню. Всякое ваше слово и жест, всякое их случайное истолкование неизменно прибавляют что-то новое к моей головной о вас правде, и этот ваш – мной искусственно себе навязанный – образ, не сгущающийся до живой реальности, остается всегда неопределенным, меняется после любой мелочи, особенно в дурные часы, но тот, принятый сердцем, основной, и принятая безукоризненность наших отношений – нередко тускнея и уничтожаясь – потом неукоснительно возрождаются, и вот ими я блаженно отравлен и ослеплен. Иногда я прихожу в ужас, что так смело – на вас одной – я построил всё решительно, на вас «поставил» всю свою жизнь, что вас уже не смогу из себя вырвать и на создание другой женщины не сумею потратить столько вдохновенных усилий, что без вас поневоле окажусь в пустоте, но с вами я как-то героически неблагоразумен и беспечен и, себя еще больше отравляя, идя на большее отчаянье при вашей следующей беспощадности, подолгу смотрю на вас, ваше бледное, без кровинки, лицо, на густые кукольные ресницы, на темно-синие привычно-родные глаза, выражающие благодарность, чувственность, беспокойство – с такой откровенностью и полнотой, что всё это не может не передаваться.