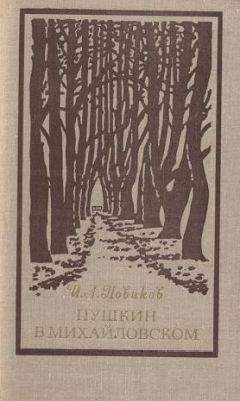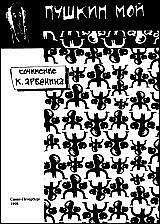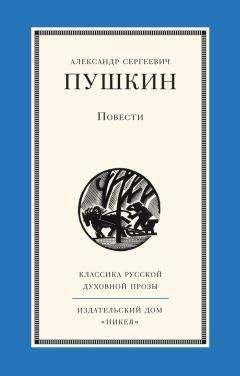Иван Новиков - Пушкин на юге
Впрочем, о поведении Пушкина генерал, по обычаю, изъяснился кратко и ясно: «Г. Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно». Но тут он легонько вздохнул, вспоминая, как у него за столом Пушкин не раз громил и правительство, и все благородные сословия в государстве… «Я занимаю его письменною корреспонденциею на французском языке и переводами с русского на французский…» Пришлось и повторно вздохнуть, но уже несколько глубже: если бы эти свои нередкие выпады против высших властей и сословий Пушкин также переводил бы на французский, а не изрекал чисто по–русски — при слугах!
Далее шло самое щекотливое — о масонстве… «Относительно же занятия его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой… (тут сочинитель письма выразительно крякнул)… по неоткрытию таковой не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было. Впрочем, обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость. руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что наконец почувствуют необходимость себя переиначить. Когда бы благодатное сие чувствование возбудилось в г. Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу». Так отрицание открытия ложи скользнуло совсем мимоходом, мельком, утонув в нарочито обильных туманных фразах о пользе масонства…
И, однако, тотчас же после письма, позавтракав и сменив халат на мундир, Инзов пригласил к себе управляющего ложею, Павла Сергеевича Пущина, и распорядился немедленно ложу закрыть, дабы его собственный отзыв, когда его будут читать в Петербурге, уже сходился более с правдой. «Да и зачем, — думал он с легкой улыбкой, — зачем создавать видимою правдой истинное заблуждение?»
Сам Пушкин относился к масонству прохладив и иронически. Сначала его забавляли эти обряды, позже наскучили. Над Пущиным он откровенно подсмеивался, но и разговоры других о внутреннем совершенствовании человека, которое должно лечь фундаментом для грядущего нового общества, были ему совершенно чужды. Да и были это одни разговоры, ибо жизнь этих «реформаторов» протекала у всех на виду и в ней днем с огнем нельзя было бы отыскать и признака «нового человека». Все это было внешним служением моде. Такого же мнения придерживался и Владимир Раевский, также состоявший членом братства.
Но если не ложа сама по себе, то имя Овидия было дорого Пушкину: именно тут, в Бессарабии, так живо и так непрестанно он его ощущал! «Я буду жить в стране, в которой бродил Назон», — повторял он самому себе в первые же дни кишиневского своего бытия. Он смутно припоминал, еще сидя на развалинах храма Дианы, что история Ореста и Пилада есть и у Овидия в его «Письмах с Понта», и взял их у Липранди в первый же раз, как познакомился с ним.
— Вы, между прочим, книжечку эту мне до сей поры не вернули, — заметил Липранди, бывший в тот день чем–то сильно расстроенным. — Я не в претензии, — поднял он руку, — не обижайтесь. Но не верю я ничему.
— Это чему же, собственно?
— Да ничему. Во–первых, невероятно: Овидий вложил свой рассказ об Оресте и о Пиладе в уста варвара–гота, которого, верно, он плохо к тому же и понимал…
— Неверно! Неверно! — Пушкин даже вскочил. — Вы просто забыли Овидия. Он точно для вас добавляет, что выучился и по–гетски и по–сарматски.
— Я это помню, как помню и то, что это не был, собственно, даже гет, он также был чужестранец и родом из Тавриды. Овидий и этот старик, конечно, немного понимали по–гетски, учились, как и сами вы учитесь по–молдавански… (Липранди хотел было добавить: «И даже других учите, как, например, инзовского серого попугая!» — но он обладал очень большой выдержкой и не захотел ради красного словца ссориться с Пушкиным, которому давно уже надоело слушать попреки в том, что он заставил эту птицу затвердить одно неприличное молдаванское словечко.)
— Я плохо учусь, — возразил Александр, — но важно не это. Все, что пишет Овидий в письме своем к Котте, все правда. Я ошибся, что вы Овидия забыли, вы, конечно, его помните. Но мало помнить, Иван Петрович…
— Надо еще и соображать?
— Вот именно. Вы сами мне облегчили выговорить это слово. (Сам Пушкин, в противоположность Липранди, сдержанностью не отличался.) Ведь там же есть очевидное доказательство, что старик этот действительно был и Назон его слушал. Овидию было известно об Оресте и о Пиладе и без него. Он отлично бы мог это и без него написать. Но, конечно, уже такие подробности о храме, и о лестнице, и о числе ее ступеней он бы не выдумал. Это во–первых, а во–вторых…
— Нет, подождите, это уж я скажу «во–вторых»: я только что начал, а вы…
— А я говорю во–вторых, — с задором и страстью перебил его Александр, — и это–то и есть самая прелесть. Бог знает, когда случилось прекрасное дело: юноши дружбу поставили выше самой даже жизни! И вот…
— И вот это–то и есть мое «во–вторых», — прервал в свою очередь и Липранди (он, когда волновался, имел обыкновение подергивать себя за пуговицу мундира на груди). — Я спрашиваю: есть ли на свете дружба такая? Вот вы, случается, называете Владимира Федосеевича своим Орестом…
Пушкин вспылил и отвечал почти дерзостью:
— Тогда и у сердца нечего дергать, коли там всего одна пуговица!
Липранди смолчал и только круто повел бровями.
— Вы, Александр Сергеевич, так и не докончили, — вступил тогда и Раевский, поднимая на Пушкина задумчивые глаза. — Вы сказали так хорошо: «Случилось прекрасное дело…»
— И не умирает! — подхватил Пушкин с одушевлением. — И не умрет! И живо навеки в народной памяти! Да именно то–то и есть самое драгоценное, что это не пропадает, а становится живым достоянием людей.
Владимир Раевский невольно кивал головой, слушая друга; что–то внутри его разгоралось. А Пушкин уже обернулся к Липранди:
— Вы говорите, что гет этот — варвар. Так что же, у варваров нету и сердца? А разве он сам не сказал, как ценят они верность и дружбу? Да разве же и о самом Овидии память угасла в этих краях? Вот теперь уже я говорю, что не верю. Не верю я этому!
— А вы напрасно сомневались, Иван Петрович, — обратился Раевский к Липранди. — И я горжусь, что Александр Сергеевич почитает меня своим Орестом. Я шутливо зову его Овидиевым племянником, так вот племянник был прав, когда говорил о своем дяде. И прав был о дружбе…
— Дружба моя к вам обоим известна, — промолвил Липранди и на мгновение прикрыл глаза темными веками.
— … — и прав, — медленно, но глубоко одушевляясь, продолжал Раевский, — что каждому из нас первая честь и лучшая радость — стать достоянием народа. И если о ком из нас добрая память останется и не умрет, значит: недаром я жил!
Это невольное «я» вырвалось из самых потайных его дум, о которых не говорил никогда, и Пушкин отчетливо это почувствовал. Тут же подумал он и про себя (собственно не про себя, а про Овидия, но это и было именно про себя самого): «Август поэта выслал, прогнал, а поэт пережил самого Августа и признан народом!»
Наутро после закрытия ложи Пушкину вспомнилась эта недавняя сцена у Липранди. Она еще укрепила их дружбу с Раевским и не оставила никаких неприятных следов в отношениях с самим Липранди.
Александр, чего с ним не бывало, в постели потребовал трубку. Он пускал клубы дыма (правда, почти не затягиваясь) и молча о чем–то сосредоточенно размышлял. Никита пробовал было его разговорить, — он едва отвечал и, казалось, вовсе не думал вставать, как вдруг внезапно вскочил и в одной рубашке подбежал к окну. Нераннее декабрьское солнце из–за железных решеток окна сияло и тепло, и приветливо. Да, в такое погожее утро родятся и счастливые мысли.
Наскоро, почти обжигаясь, Пушкин выпил кофе и, как был, — в домашнем архалуке и бархатных шароварах, — поспешил к своему генералу.
Выйдя за калитку, он поглядел на верхний этаж. Все в том же положении, к починке и не приступали. А впрочем, стены как треснули и осели, так и стоят себе… «И чего Инзушка мой испугался и переехал? А то бы взбежать к нему прямо по лестнице…» Но и так было недалеко.
Инзов его принял в халате. Чем–то он был озабочен. Ужели закрытием ложи? Но Пушкин, едва успев поздороваться, сразу сказал:
— Овидия нашего, Иван Никитич, похоронили вчера. Отпустите меня. Я поищу гробницу его вместе с Липранди.
— Липранди поедет по важному делу, а не гробницы разыскивать.
— А это не важное дело? Имя поэта зачеркнуто, как если б похоронили и самую память о нем.
— Памятуй, кто тебе в этом мешает? Но в эту поездку я не могу тебя отпустить.
— Да почему?
Инзов не сказывал; Пушкин надулся. На Ивана Никитича, прирожденного добряка, иногда словно что находило. Но Александр решил настоять)на своем и устремился к Липранди.
— Что у вас за дела, Иван Петрович?
— Служебные. По поручению генерала Орлова.
— Секрет?
— Да, пожалуй, секрет. Произвести надо следствие в тридцать первом и в тридцать втором егерских полках — в Измаиле и в Аккермане.
— Так что же вы мне секрет говорите?